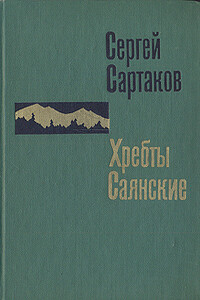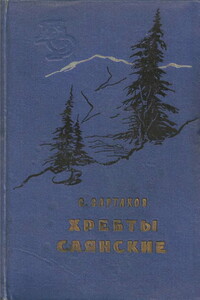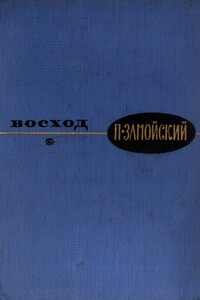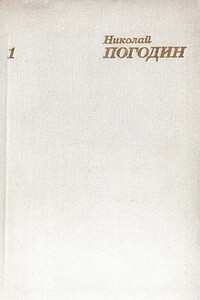Пробитое пулями знамя | страница 101
Откуда у тебя такое ужасное платье? — невольно спросил Алексей Антонович. Он несколько повеселел, когда Анюта упомянула о внуках. Эти ее слова Алексею Антоновичу казались сказанными со значением.
Иркутские товарищи подарили. А чем же не платье? Очень хорошее платье. И, главное, как раз к новому паспорту.
Алексей Антонович теперь уже знал, что это значит: у Анюты не будет прежнего имени, для всех она станет кем-то другим.
У тебя новый паспорт?
Безусловно. — Анюта сказала это с каким-то оттенком нарочитой беспечности. — Алеша, а граммофон?
Иду.
Он принес граммофон с огромным бледно-розовым рупором и сверкающей никелем мембраной. Потом сходил за пластинками. Их было очень много, целая стопа. Алексей Антонович взял верхнюю, не глядя на этикетку, положил ее на оклеенный зеленым бархатом диск, сменил в мембране иголку, завел пружину.
Вяльцева? — с первых же звуков голоса певицы узнала Анюта. — Бога ради, Алеша, сними скорее! Ненавижу цыганщину. У меня сердце не разбитое. Поставь что-нибудь народное, широкое, с баском.
Ну вот, тогда разве это? — неуверенно сказал Алексей Антонович, перебрав едва не половину стопы.
Он заменил пластинку. В рупоре граммофона затрещало, защелкало — пластинка у кромки была поцарапана, — а потом свежий, могучий бас, размахнувшись по-русски: «Э-э-э-х!» — и дальше, чеканя слова, медленно, по слогам начал:
Э-эх, лед трещит, и вода плещет…
Заулыбался где-то там, в рупоре, словно по секрету, сообщая:
А кум куме судака тащит.
Весело и озорно, не тая своей радости, выкликнул:
Эх, кумушка, ты голубушка!..
И зачастил, просительно, любовно-ласково.
Свари, кума, судака,
Чтобы юшка была,
И юшечка, и петрушечка…
Замер. Замер в нетерпеливом ожидании и, не сдержавшись, напрямик ахнул:
Да пожалей же ты меня, кума-душечка!
Анюта сидела на диване, слушала, слегка поеживаясь от ласково-щекочущего баса. И когда он закончил, так же как начал, вздохом, свободным и широким, только без слов, рна поднялась и зажмурилась в восторге.
Вот это замечательно! Настоящая, русская… Ольга Петровна шутливо добавила:
— Как жаркая баня с холодным квасом и свежим березовым веником.
Анюта все еще была где-то там, в мире чудесных звуков, покачивала головой и шептала:
Ой, хорошо, до чего же хорошо это…
Потом она сама выбирала и ставила пластинки: и «Коробейников», и «Метелицу», и «Тройку», и «Светит месяц». Наткнулась на вальс «Весенний сон».
Пойдем потанцуем, Алеша?
И потащила его в зал, где свету только и было что от лампы, горевшей в комнате Ольги Петровны. Танцевала Анюта очень легко. Алексею Антоновичу казалось, что не он держит ее, а Анюта ведет его за собой. Он давно не танцевал, с самых, пожалуй, студенческих лет, а с Анютой вообще впервые, и теперь удивлялся той необычной, волнующей радости, какую доставлял ему танец. Он видел глаза Анюты, живо блестевшие в полутьме, чувствовал на плече мягкую и в то же время сильную руку, иногда дыхание у щеки. И стены комнаты словно раздвигались перед ним, он уносился вместе с Анютой куда-то на обрывы Вознесенской горы, где голубое небо и серебряные перья облаков, а внизу розовым туманом стелются цветущие рододендроны, а еще ниже плещется в берег прозрачной волной река. Боже, боже, как далеко это начало любви. И как хорошо, что любовь бесконечна…