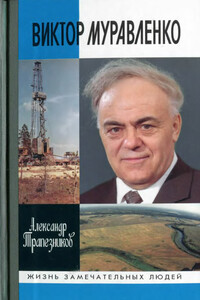Инония и Китеж | страница 6
Во время крымской кампании Толстой пережил высокий патриотический подъем, добровольно поступил в армию и едва не погиб в тифу, от которого его спас только его необыкновенный организм, царское внимание и уход его будущей супруги, той, к кому обращены строки,— ныне столь известные, полные неувядающей прелести:
После крымской кампании Александр II назначил Толстого своим флигель-адъютантом, но Толстой, полагавший единственной целью всей своей жизни свободное служение искусству и уже давно страдавший от своей все же далеко не полной свободы, от своих обязанностей по Двору, отклонил от себя эту новую царскую милость: поступок житейски совершенно необычайный. Тогда ему дали звание Императорского Егермейстера, почти ни к чему его не принуждающее, и он повел жизнь, уже всецело посвященную поэзии, семье, охоте, деревне. В деревне, в черниговском поместье, он и умер - 28 сентября (11 октября) 75 года. И незадолго до смерти «странное», по его выражению, событие произошло с ним, событие, о котором он сам рассказывал в письме к своему другу, княгине Витгенштейн:
«Со мной случилась недавно странная вещь: так как я не мог (от удушья) ни лечь, ни спать сидя, то как-то ночью я принялся за одно маленькое стихотворение. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли спутались и я потерял сознание. Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что написал: бумага лежала передо мной, карандаш тоже, а вместе с тем я не узнал ни единого слова в моем стихотворении. Я начал искать, переворачивать бумаги — и так и не нашел моего стихотворения. Пришлось сознаться, что писал я бессознательно, совершенно бессознательно, а вместе с тем мною овладела какая-то мучительная боль, которая состояла в том, что я напрасно хотел вспомнить что-то. Я уже три раза в жизни пережил это чувство — хотел уловить какое-то неуловимое воспоминание — и оно, это чувство, было всегда, как и на этот раз, очень тяжело и страшно. Стихотворение, которое я написал бессознательно, начинается так: «Прозрачных облаков спокойное движенье...»
Немногим, думаю, известен этот предсмертный случай с Толстым и немногими оценен как следует. А меж тем, он с особенной силой свидетельствует об одной из самых существенных черт натуры и таланта Толстого: о том, как вообще было много в этой натуре того, о чем говорят: Божьей милостью, а не человеческим хотением, измышлением или выучкой.