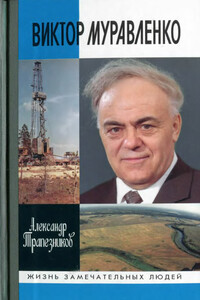Инония и Китеж | страница 5
Скифы! К чему такой высокий стиль? Чем тут бахвалиться? Разве этот скиф не «рожа», не тот же киргиз, кривоногий Иван, что еще в былинные дни гонялся за конем сраженного Святогора? Правильно тут только одно: есть два непримиримых мира: Толстые, сыны «святой Руси», Святогоры, богомольцы града Китежа — и «рожи», комсомольцы Есенины, те, коих былины называли когда-то Иванами. И неужели эти «рожи» возобладают? Неужели все более и более будет затемняться тот благой лик Руси, коего певцом был Толстой?
Толстой говорил: «Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия; это не тенденция, это я сам. Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы!» Так говорил он не раз, праведно чувствуя, что весь он и как поэт, и как человек есть порождение Руси славянской, а не обдорской, не киргизской. И не раз возмущался:
Теперь мы среди вящих, неустанных хлопот подобного рода. Будем же крепко помнить о Толстых среди «монгольского» засилия и наваждения!
«Откуда вы взяли, что мы монголы?» В самом деле: откуда это, будто наиболее подлинный образ русского народа есть кривоногий и раскосый Иван с его Инонией,— иначе говоря, с простым, старым, как мир, дикарством,— а не Святогор? «Я мужик, и посему я Русь!» — кричит Иван. Да, но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь. И след ли Иванам бахвалиться рядом с такими мужиками, как Ломоносов, Кольцов, с такими русскими, как Толстые?
Рос и воспитывался Толстой у дяди по матери, у Перовского, в медвежьей Черниговщине, но уже восьми лет, через поэта Жуковского, был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым и остался в большой близости и дружбе на всю жизнь. Так же противоположно пошло и дальше: то черниговская глушь, то Петербург и Европа — отрочество Толстой почти сплошь провел в заграничных путешествиях с матерью и дядей, горячим поклонником Запада и западного искусства. И в отрочестве судьба осчастливила его еще тем, что он был с дядей у Гёте, в его веймарском доме, и сидел у Гёте на коленях. В молодости, пройдя прекрасное домашнее воспитание и выдержав экзамен при университете по словесности, он был причислен к русской миссии в Германии, затем служил в Петербурге и вел жизнь то деревенскую, дикую, охотничью, то столичную, очень светскую и шумную, выделяясь в толпе своими связями, родственными и придворными, и в то же время независимостью от них, блеском ума, остроумия, дружбой с художниками и писателями и вместе с тем дружбой с Наследником Престола, а кроме того, своей простонародной наружностью и силой, истинно богатырской: он, например, легко ломал конские подковы. Покорил ли его себе свет? Нет: