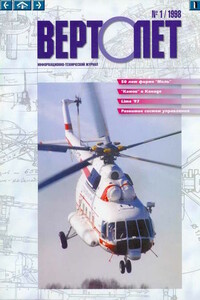Авиация и космонавтика 2008 05 | страница 26
Ставка исключительно на стратегическую оборону, сколь угодно плотную, под градом разрушительных атомных ударов считалась контрпродуктивной и не способствующей выполнению возлагаемых на неё задач. Достичь успеха, по мнению теоретиков отечественного оперативного искусства, можно было перехватом инициативы у противника и ведением решительных наступательных действий с разгромом его войск в полосе прорыва и оперативной глубине, захватом намеченных рубежей, а также нанесением ударов по резервам и удалённым объектам, которые бы воспрепятствовали возможному противодействию оставшихся у противной стороны сил (если, конечно, та ещё на что-то была способна).
Основная масса фронтовой ударной авиации Варшавского Договора была представлена истребителями-бомбардировщиками МиГ-15 и МиГ-17, далёких от современных требований. Самым слабым их местом в роли «ударной силы» являлась крайне невысокая боевая нагрузка, лучшего оставлял желать и радиус действия, в лучшем случае, позволявший оперировать в тактической глубине. Положение напоминало историю времён наполеоновских войн, когда один из французских генералов, оправдываясь за неудачу, стал перечислять её причины: «Во-первых, у меня не было пушек, во-вторых, не хватало боеприпасов…» – «Этого уже достаточно», – признал император.
Су-7Б появились как нельзя вовремя. Организационные вопросы по усилению авиации стран Варшавского Договора, в первую очередь, находящихся на «переднем крае» защиты социализма, начали «утрясать» уже в 1962 году. Круг вопросов включал и финансирование весьма недешёвых поставок, однако уже через год Чехословакия оплатила заказ первой дюжины Су-7 для своих ВВС. Всего предполагалось оснастить новыми машинами два авиаполка общей численностью в сотню самолётов (штат истребительно-бом- бардировочного полка чехословацкой авиации отличался от советского, насчитывая три эскадрильи четырёхзвенного состава с общим числом в 48 боевых машин и три-четыре «спарки»). Заказанная первая дюжина Су-7 должна была обеспечить начало комплектования первой эскадрильи, на базе которой в дальнейшем можно было бы вести подготовку персонала в полном объёме.
Надо сказать, что в отношении военно-технического сотрудничества ЧССР среди прочих членов восточного блока всегда находилась в привилегированном положении, получая новейшую технику и вооружение в первую очередь. Основой для этого являлось ответственное и заинтересованное отношение Праги к партнёрству и вопросам военного строительства, а также давние и прочные традиции чешской «оборонки» – «Шкода» и «Ческа Збройовка» ещё с начала века занимали одно из ведущих мест в Европе и имели мировую славу. Авиастроение и само отношение к авиации в стране и вовсе носили особый характер, будучи любимым детищем руководства страны и армии, результаты чего были вполне очевидны и осязаемы – многие тысячи наших лётчиков и пилотов других стран получили «путёвку в небо» именно на чехословацких Л-29 и Л-39. Даже в космосе при всей политизированности тогдашней космонавтики первым из всего социалистического содружества на советском корабле побывал именно гражданин Чехословакии военный лётчик В. Ремек. Что касается заинтересованности в модернизации ВВС, то красноречивым подтверждением должного внимания Праги к делу выглядел сам объём заказа в сотню ударных самолётов, в два с лишним раза превышавший заказ польских ВВС. При тогдашних объёмах производства Су-7 это означало практически полную годовую занятость предприятия!