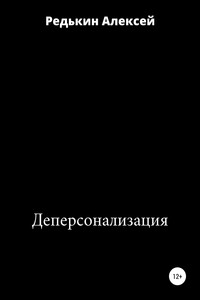Червь | страница 38
— Фанни, ступайте к окну.
Девушка выпрямляется, и причина её молчания становится понятной. Глаза её влажны от слёз — скупых слёз человека, сознающего, что у него нет выбора. В ту эпоху о каждом было принято судить по внешним обстоятельствам его жизни; даже самооценка — кем себя считать, к какому разряду причислить — была исполнена оглядки. Нам бы показалось, что этот мир полон мелочных ограничений, участь каждого определена раз и навсегда — по сути, воля человека стеснена до последней крайности. Подневольный же судьбе человек того времени посчитал бы нынешнюю жизнь необычайно стремительной, беспорядочной, богатой в смысле проявления свободы воли (богатой богатством Мидаса: впору не завидовать, а сокрушаться об отсутствии абсолютных ценностей и нечёткости сословных границ). И уж конечно, выходец из той эпохи заключил бы, что, стремясь удовлетворить своё самолюбие и корысть, мы докатились до полного беззакония, если не сказать до безумия. Фанни плачет не от бессильной ярости, не от обиды на судьбу, которая заставляет её сносить подобные унижения, — эти чувства скорее свойственны современному человеку. Её грусть сродни тоске бессловесного животного. Унижения — что унижения: жизнь без них так же немыслима, как зимние дороги без слякоти или деторождение без детской смертности (по статистике, из 2710 человек, умерших в Англии за ничем не примечательный месяц, что предшествовал этому дню, почти половину составляли дети до пяти лет). В прошлом жизнь оказывалась безжалостно загнана в столь узкие рамки, что сейчас даже трудно вообразить. Ждать сочувствия неоткуда: в этом легко убедиться, если взглянуть в невозмутимое лицо мистера Бартоломью.
— Ступайте же, — негромко повторяет он.
Помедлив немного, девушка вскакивает и направляется к окну.
— Отворите ставень и выгляните наружу.
Кресло, в котором сидит мистер Бартоломью, от окна отвёрнуто, и он лишь по звуку узнаёт, что девушка выполнила его приказ.
— Видите ли вы небесный престол, на коем восседает Искупитель одесную своего Отца?
Девушка оглядывается на мистера Бартоломью.
— Вы же знаете, что не вижу, сэр.
— Что же вы видите?
— Ничего. Ночь.
— А в ночи?
Девушка бросает мимолётный взгляд в окно.
— Только звёзды. Распогодилось.
— Что лучи наиярчайших звёзд, дрожат?
Девушка снова смотрит в окно.
— Дрожат, сэр.
— Знаете ли, отчего?
— Нет, сэр.
— Так я вам растолкую. Они дрожат от смеха, Фанни, они насмехаются над вами. От самого вашего рождения насмехаются. И так до вашего смертного часа. Что вы для них? Раскрашенная тень, не больше. Вы и весь ваш мир. Что им за дело, веруете вы во Христа или нет. Будь вы грешница или святая, потаскуха или герцогиня, мужчина или женщина, молодица или старуха — им всё едино. И недосуг им разбирать, рай вас ожидает или ад, блаженство суждено вам или муки, жалует вас фортуна или сокрушает. Вы куплены для моей забавы, но точно так же рождены на забаву им. Под их лучами вы ничто, как скот, глухой и немой вроде Дика и слепой, как сама судьба. Участь ваша нимало их не трогает, а на бедственное ваше состояние они взирают так же, как тот, кто наблюдает с высокого холма за идущим в долине сражением, видя в нём всего лишь редкое зрелище. Вы для них ничто. Сказать ли, отчего они вас презирают?