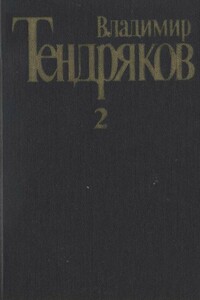Три мешка сорной пшеницы | страница 14
— Запиши, Вера.
Народ разошелся, в комнате, загроможденной лавками и стульями, осталось только четверо: Кистерев, Вера, Божеумов и Женька.
Божеумов широкими шагами ходил от стены и стене. Кистерев сидел за столом согнувшись, на зеленом лице — ввалившиеся глаза, тонкий синий рот.
— Вы и в самом деле рассчитываете добыть хлеб одним лишь добрым словом? — обратился Божеумов к Кистереву.
Тот помолчал, сгибаясь над столом, и наконец обронил:
— Хлеба нет.
— Это как понимать?
— Да так и понимайте. Хлеба нет, его нельзя добыть ни добром, ни злом.
Божеумов повернулся всей грудью, заложил длинные руки за спину:
— Та–ак! Тогда зачем же вы свой метод подсовывали?
— Чтоб вашим не пользоваться, разумеется.
— Та–ак! — Божеумов сделал шаг вперед, грудью на Кистерева, руки по–прежнему заложены за спину: — Не знаю, как вы себя вели на фронте, а здесь вы пораженец, Кистерев! Даже удивительно, как таким доверяли взвод!
— Мне доверяли батальон.
— Тем более страшно.
— Где вы раньше были, товарищ Божеумов? Проявили бы ко мне недоверие, перед тем как отправить на фронт, глядишь, был бы я сейчас таким, как вы, — с двумя руками.
— Откуда–то вы принесли пораженческие настроения. Государство это должно насторожить.
— Вы, похоже, путаете себя с государством.
— Я здесь не по своему желанию, меня сюда послало го–су–дар–ство, Кистерев. Вы этого не поняли, так поймете!
— Смотрю, вам очень хочется напугать меня до смерти.
— Не храбритесь, Кистерев, не храбритесь. С пораженцами у нас теперь разговор короткий.
Минутное молчание, затем тихий, с усилием голос Кистерева:
— Поглядите на меня, Божеумов. Поглядите внимательней — кого вы пугаете? У меня не только рука откушена, я еще ношу в себе, как дорогую память, под сердцем несколько железок. Врачи не могут понять, почему я до сих пор еще жив. Вы пугаете, Божеумов, а ведь самое страшное, что может случиться с человеком, со мной уже случилось. Что еще?.. Что на свете может испугать меня?… Молчите, Божеумов. Не знаете, что сказать… Сказать нечего…
Божеумов молчал, он смотрел на Кистерева, и лицо его с хрящеватым большим носом постепенно стало испуганно–асимметричным. Кистерев был голубовато–бледен, на его лбу, словно роса на камне, лежал пот. Он попытался встать, и ному бросилась Вера:
— Гос–по–ди! Опять?
— Похоже…
— Обопритесь на меня, Сергей Романович. Вот так, вот так… Раньше проходило, и теперь ничего…
Кистерев доверчиво обнял единственной рукой крепкую белую Верину шею, Женька кинулся расталкивать стулья и скамьи, прокладывать проход к двери. Божеумов, по–прежнему окостеневше прямой, растерянно и чуть брезгливо взирал на них сзади.