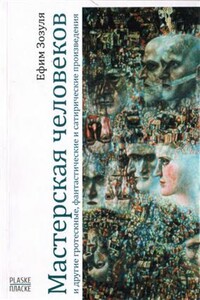Невозможно остановиться | страница 43
Она смеется.
— А ты что, СПИДа боишься?
— СПИД ладно. А вот гонорея…
— Обалдел ты, что ли! Я же на рыбообработке. Нас каждый месяц проверяют. Да совсем недавно проверяли.
— Ну, тогда что ж. Тогда давай, приступай.
— Фи, какой маленький, слабенький, дряхленький! — причитает она.
— Он умеет расти. Но он привередливый. Ты его раздразни.
Но не суждено нам с Зиной вспомнить былую одноразовую близость. (Может, это к лучшему?) Густой, хриплый рык раздается из дальнего угла:
— Теодор! Ты как там?
Я приподнимаюсь на локте. Егор лежит, откинув одеяло, всклокоченный, черный, бородатый. А рядом с ним (я промаргиваюсь) какая-то рыжая, полнолицая… кто такая?
— Доброе утро! — говорю я. — А с кем это ты возлежишь, Егорушка?
— Сейчас узнаем, — басит он. — Тебя как зовут?
— Не хами, — сердито отвечает рыжая. — Слушай, Зинка, нам спешить надо. Опоздаем в управление.
Егор глядит на часы и вдруг сильно бьет себя ладонью по лбу: мать-перемать! У него же сегодня в десять ноль-ноль запись на радио. Интервью должен дать и стихи читать из последней книжки.
— Значит, похмеляться не будешь? — огорчаюсь я.
— Нет. Не могу.
Вдруг все трое развивают бурную деятельность: начинают двигаться, перемещаться, суетиться. Рыбачки с одеждой в руках удаляются в туалет и ванную комнату. Мы с Егором кратко восстанавливаем события. Его память сохранила больше, чем моя, но и его воспоминания не слишком достоверны.
— А с этой рыжей у тебя что-нибудь произошло? — интересуюсь я.
— Блядь она, — бурчит Егор, — стопроцентная.
— А ты что хотел? Гвоздику непорочную?
И вот уже нет их. Никого. Ушли. А я остаюсь наедине с недевственной уже подругой-поллитровкой.
8. ТЕРЗАЮСЬ
Надо бы еще поспать. Отключиться и в забытьи обрести новые силы. Они понадобятся для дальнейшего существования. Судя по всему, конец еще не сегодня и не завтра. Иногда думаешь, что подошел предел, крайняя точка, безнадежней уже не может быть. Но это ошибка, как я понял. Всегда находятся мгновения еще более мрачные и безысходные. Вот, кажется, все — глухой, непроходимый тупик. Черные-пречерные обстоятельства обложили со всех сторон. Хуже не бывает. Неправда! Бывает и будет. Мрак и отчаяние бесконечны. Иное дело счастье, радость. Они конечны. Эти чувства в больших дозах становятся непереносимы. Клавдия помнит, и я помню тот длинный период согласия и понимания, когда я шел на взлет. Все ладилось у меня. Писательская удача вела, как верный поводырь. Дочь радовала пытливым умом и здоровьем. И что же Теодоров? Застолбил, продлил насколько возможно эти безоблачные дни? Да нет же. Я почуял беспокойство, а затем ясно ощутил кромешную тоску. «Так не пойдет! — сказал я сам себе. — Жить так безмятежно и удачливо — это патология». И все сделал — то неосознанно, то вполне сознательно, — чтобы нагнать на семейную жизнь тяжелые предгрозовые тучи.