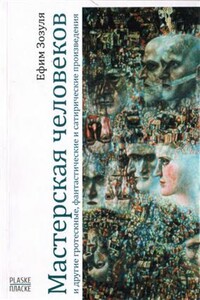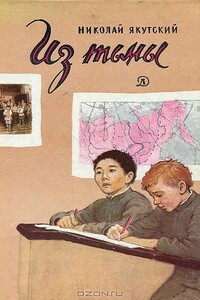Невозможно остановиться | страница 44
То есть добился чего хотел, и вот теперь лежу один в разгромленной квартире, понимая, что конец не сегодня и не завтра, раз избежал позавчерашней веревки. А когда? А скоро — по всем признакам. Подождите немного.
Странно, конечно, но многолетняя потребность чтения и сейчас дает о себе знать. Все-таки Теодоров не тот чукча из старого, элементарного анекдота, который на вопрос: «Вы читали Толстого?» отвечает: «Я не читатель, я писатель»… нет, не тот. Вот аргентинец Хорхе Борхес. Вот Набоков, Солженицын, Павич… Кого предпочесть из библиотечной литературы (своей у Теодорова, увы, нет)? Что-нибудь сейчас полегче надо… И я сочетаю остатки водки с неглупым детективщиком Ле Карре.
Радио оптимистично сообщает о погромах в республиках, о посиделках в Кремле, о происках безумного именинника Саддама. Безусловно, мир велик, думаю я, одновременно читая и слушая (это несложно). «До того он велик, что иные читатели книг, испытав бесконечный испуг, утверждают, что мир — только, миг, лишь мгновение, полное мук». Леонид Мартынов, давний, увы, покойник. Оставил после себя строчки и ушел. Все что-то оставляют после себя. Так заведено. (И я предназначаю эти страницы для родственников и друзей, для разового употребления.)
Собственно говоря, я жду стука в дверь. Возможно, кто-нибудь (Илюша, возможно) навестит одинокого Теодорова, чтобы поправить свое здоровье и прояснить вчерашние обстоятельства. Но вряд ли, вряд ли. Застольная свобода у нормальных людей чередуется (должна чередоваться) с рабочим и семейным укладом — и по необходимости, и по душевному зову. Только тогда она, эта свобода, по настоящему ценна. А я, Теодоров-сан, возвел ее в бесконечную степень: по неудержимости своей и по невозможности иного выбора. Не придут, нет. Переборют похмельный синдром, наведут мосты с женами (это несложно для них, умеренных), выйдут на службу (они служат кто где). Нет, не придут, нет. Уже за то спасибо, что вообще заходят. Ведь сплошь и рядом такие одиночки, как Теодоров, выпав в осадок, уже не приживаются на прежней человеческой почве, теряют бесповоротно старые узы и связи… да-а.
А хусейновское фанатичное воинство поджигает нефтяные скважины в Кувейте. Я, Теодоров Юрий Дмитриевич, родился 31 июля 1951 года в Кувейте. Помнится, как страшно я вдруг растерялся, оказавшись в этой квартире. Никак не верилось, что такой исход стал возможен, что давние твои угрозы, Клавдия, приобрели ясные материалистические очертания: развод, размен, условный раздел имущества. Казалось бы, живи и радуйся, Теодоров, вольной воле, ведь ты так к ней стремился! А я что делаю в эти дни? Я, видите ли, как потерявшийся младенец, плачу ночью, уткнувшись в подушку… так не по-мужски, ох, не по-мужски! Дочь мне, видите ли, жаль, осталась без отцовского присмотра… и себя, сироту, жаль не меньше, чем дочь: нет за мной пригляду. Вот и начинаю мрачно пить, именно мрачно, а не как обычно — в обнимку с веселым, дружелюбным Бахусом… и мрачно изредка плачу. Но такой живучий этот писателишка Теодоров! Приспосабливается ведь к обстоятельствам. То есть вдруг, в один просветленный день, остро осознаю, что основная часть моей жизни завершена, возврата к ней нет, а остаток — в моем личном, и только личном распоряжении. Следовательно, что же? Не надо, следовательно, хныкать. Прочь жалкие слезы! И не надо гневаться на судьбу: мастерил ее сам, с огромными усилиями, с многолетней настырностью — и добился в некотором роде совершенства.