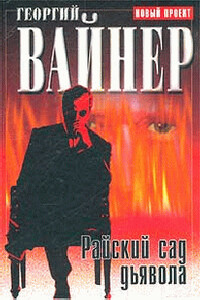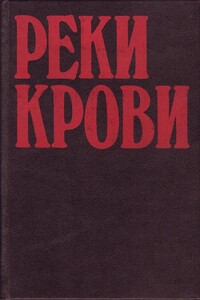Город принял | страница 55
И шум мороженного обвала прекратился, уединенность наша в этом сладком грохоте исчезла, телебенькнули в эфире позывные «Не слышны в саду даже…», и Катя твердо напомнила:
— Говорит «Маяк». Московское время…
А я ответил Рите:
— Нет, не хочу. Если ты начинаешь новую жизнь, то куда девается старая? Если ты сам стал новым, то где ты похоронил себя старого?…
И может, Рита на все мне ответила бы, все объяснила бы и доказала, как когда-то, когда мы оба еще не совершили ненужных поступков, не приняли нелепых решений, не сделали массу глупостей, оказавшихся стыдными и горестными ошибками, но в дверях уже стоял Юра Одинцов и энергично махал нам рукой — на выход!..
— Милиция слушает. Замдежурного Микито…
— Здоровеньки булы, Микито! Это Гнатюк из восемнадцатого отделения тебя тревожит. Просьба у меня — тут прохвосты какие-то сняли баллоны с инвалидного «Запорожца». Мы в сводку дали, а вы передайте, пожалуйста, ориентировку побыстрее, а то жаль человека: без ног ведь…
17. Рита Ушакова
У женщины было серое, смазанное от страха лицо. Она говорила медленно, словно у нее сильно замерзли губы. А когда ей неожиданно задавали вопрос, она резко вздрагивала и, будто глухая, долго искала глазами — кто спросил?
— …Что же это такое, Господи? Среди бела дня! Пропустил в лифт, спрашивает: «Вам какой этаж?» Нажал на кнопку, повернулся ко мне: «Давай, бабка, сумку!» И ножик перед глазами держит…
И такой в ней бушевал испуг, так от пережитого волнения тряслось все ее существо, что я сама ощутила эту резонансную волну — без всякого труда увидела гудящую пластиковую коробку лифта, онемевшую от ужаса старуху, зловещее посверкивание тусклой лампы на острие ножа, который еле-еле подрагивает перед глазами, тоскливое ощущение безнадежности, бессилие ночного кошмара — ни закричать, ни побежать, ни позвать на помощь, потому что уже сдвинулись дверцы лифта и, как медленные створки крематория, отделили от всех добрых людей на свете. Только мерное гудение моторов, скрип тросов и злой просверк ножа перед глазами…
— Сердце зашлось — слова молвить не могу. И руки отнялись…
— Я понял, дальше… — поторапливал ее Стас, и в этот момент мне неприятна его деловитость.
Я понимаю, конечно, что ему сейчас не до сантиментов — он дело делает, но лучше бы это говорил Скуратов. Для меня ведь он не только человек на работе. Да я, наверное, и сама бы не хотела, чтобы он меня видел на работе. На моей работе.
— Забрал сумку, вытащил кошелек из нее, а я только вчерась пензию получила — восемьдесят один рублик. И мелочи шестьдесят пять копеек… — Воспоминание о денежной потере как-то размягчило ее напряжение; в жаркой досаде из-за утраченной навсегда пенсии испуг стал медленно перетапливаться в горестную жалость к таким нужным, своим, честно заработанным деньгам. Из-под ее век трудно, как из-под камня, прорезались две мутные слезинки, и вместе с ними она будто шагнула снова к вам, к людям, к обычным нашим нуждам и огорчениям, захлопнув за собой дверь в пластиковую коробку, заполненную вместо воздуха ужасом смерти. — И еще спрашивает: «Часы есть?» «Нет», — говорю, а он, бандит, на палец смотрит! — и показала нам палец с обручальным кольцом, вросшим за долгие годы в живую плоть.