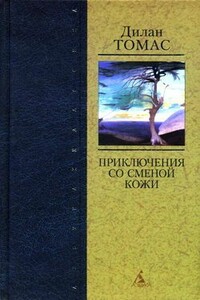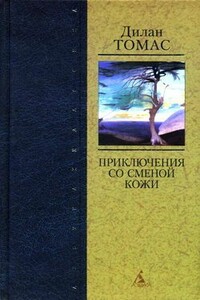Портрет художника в щенячестве | страница 44
– Нет, мистер Хамфриз, туалетные рулоны тут больше бы подошли.
– Когда я бывал в Лондоне, – сказал мистер Робертс, – я останавливался на Полмер-грин у четы по фамилии Армитидж. Он был садовник. Так они каждый божий день оставляли друг другу послания на туалетной бумаге.
– Когда садовник продает свою родину? – сказал мистер Эванс. – Когда продает настурции.
Он всегда себя чувствовал чуть-чуть не на своем месте во время этих посиделок у него в доме, и он опасался, что миссис Эванс вот-вот неодобрительно нагрянет из кухни.
– Часто приходилось использовать, например: «Милый Том, не забудь, к чаю придут Уоткинсы» или «Милой Пегги на память от Тома». Мистер Армитидж был приверженец Мосли.[16]
– Бандиты! – сказал мистер Хамфриз.
– Нет, кроме шуток, а вот что делать с обезличиванием индивидуальности? – спросил мистер Эванс.
Мод была еще на кухне. Он слушал, как она гремит тарелками.
– Отвечая вопросом на вопрос, – мистер Робертс положил ладонь на колено мистера Эванса, – какая уж сейчас индивидуальность? Массовый век порождает массового человека. Машина производит робота.
– В качестве своего раба, – отчеканил мистер Хамфриз. – Заметьте: не своего хозяина.
– Вот именно. То-то и оно. Тирания механизмов, мистер Хамфриз. А расплачиваться за все живому человеку.
– Кому еще налить?
Мистер Робертс перевернул свой стакан вверх дном.
– У нас в Лланелли это означало: «Я тут любого уложу одной левой». Но, если серьезно, мистер Эванс прав: старомодный индивидуалист сейчас – как квадратный гвоздь в круглой дырке.
– И никаких гвоздей! – сказал мистер Томас.
– Возьмите хотя бы наших национальных – как на той неделе выразился Наблюдатель – недолидеров.
– Возьмите их себе, мистер Робертс, мы уж как-нибудь нашими крысами обойдемся, – сказал мистер Эванс и нервно хохотнул.
Кухня затихла. Мод управилась с хозяйством.
– Наблюдатель – Nom de plum Бэзила Дорс-Уильямса, – сказал мистер Хамфриз. – Кто-нибудь знал?
– Nom de guerre.[17] Видели, как он разделал Рэмзи Мака? «Овца в волчьей шкуре»?
– Знаю я его! – скривился мистер Робертс – И блевать я на него хотел.
Миссис Эванс услышала последнюю ремарку, входя в комнату.
Это была тощая женщина с горестными морщинами, усталыми руками, остатками прекрасных темных глаз и надменным носом. Женщина незыблемая, она однажды в сочельник полтора часа выслушивала мистера Робертса, описывавшего свой геморрой, и, не протестуя, позволяла ему характеризовать последний как «гроздья гнева». В трезвом виде мистер Робертс к ней адресовался «сударыня» и ограничивал свою речь темами погоды и насморка. Он вскочил, уступая ей свой стул.