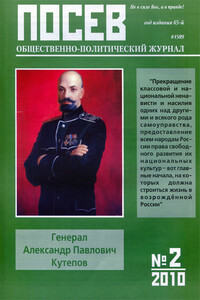Посев, 2010 № 01 (1588) | страница 13
Современная наука стоит очень дорого. Рекорд принадлежит стоимости строительства новейшей экспериментальной установки в области ядерной физики – большого адронного коллайдера, которая составила более 6 млрд. долларов. Даже США, где финансовые возможности государства несопоставимо превышают российские, госсектор обеспечивает только треть проводимых в стране исследований. Остальные средства представляют собой капиталовложения в заказные проекты со стороны частных корпораций – напрямую или через негосударственные фонды. Такое финансирование представляет собой не благотворительную, а инвестиционную деятельность, что существенно влияет на выбор тематики исследований.
К концу минувшего века во всем мире наметилась явная стагнация в области фундаментальных научных исследований. Возникло мнение, что современная наука приблизилась к физиологическим пределам человеческого восприятия окружающего мира. «Наше знание многих областей физики и химии – писал один из крупнейших ученых ХХ века, Нобелевский лауреат Френсис Крик – сейчас настолько полное и находится на столь прочных основаниях, что их основные особенности, возможно, уже нам известны». Одновременно вырос социальный заказ на прикладные исследования, финансирование которых напрямую зависит от себестоимости и предполагаемой коммерческой ликвидности результатов. Как результат, в современном обществе взаимопроникновение науки и бизнеса представляет собой естественный и неизбежный процесс. Так, стоимость международного проекта по расшифровке генома человека составила, по разным оценкам, от 1 до 5 млрд. долларов, причем она была существенно снижена благодаря включению в него частной фирмы Celera Genomics. Немедленно после успешного завершения исследований началось коммерческое внедрение результатов, которое, как уже очевидно, очень скоро окупит все понесенные затраты.
Нравится это кому-то или нет, но в течение последних десятилетий так живет весь научный мир. Результатом стала научно-техническая революция второй половины ХХ в. В СССР развитие шло в противоположном направлении: к середине 1980-х годов даже сверхплановые «хоздоговорные» исследования, ранее разрешенные в рамках «косыгинской» реформы, находились ев стадии свертывания.
Сокращение бюджетного финансирования в 1990-х поставило российскую науку на грань выживания. Администрация научных учреждений и вузов оказалась к этому не готова хотя бы потому, что состояла из деятелей, привыкших к совершенно иным условиям работы. В своих воспоминаниях покойный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак нарисовал портрет далеко не худшего руководителя советского НИИ: «…оборонщик», избалованный в недрах военно-промышленного комплекса фондами и вовремя выделяемыми лимитами, а главное – почти абсолютной властью над подчиненными». Директора академических институтов были менее избалованы масштабами казенного финансированием, а в остальном и они соответствовали этому портрету. До ухода в политику наставник Владимира Путина заведовал университетской кафедрой хозяйственного права и в силу этого хорошо знал, о чем говорит.