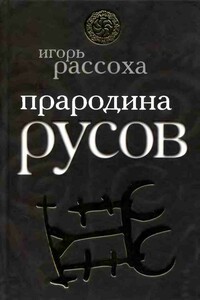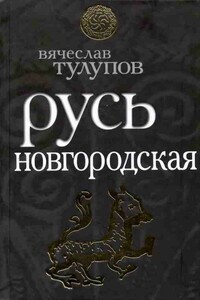Иная Русь | страница 79
Тени предков угадывались среди дубов, на заброшенном замчище. В беседке над посеребренной водой Свитязи сидела с книгой в руках если не сама паненка Марыля, то ее правнучка. Порой на улицах городка слышалась польская речь, туристы гуськом тянулись на курган Мицкевича, и чуть не каждый день по нашему огороду проходил долговязый войт (староста) — рассказывали, что он сторожит свою землю, которую отобрали большевики, — но у меня никогда не возникала мысль, что эта новогородокская земля, с легким флером польщизны, чужая. И замок, и Мицкевич, и войт, который хоть и ругался по-польски, но сам с собой говорил только по-белорусски, — все было своим. Как написано в белорусско-литовских летописях, на горе красной в четырех милях от Немана встал столец Великого княжества Литовского, нашего первого государства, — и это уже не вычеркнуть. Именно на здешних холмах оформилась государственность белорусов, а государственности без национального самосознания не бывает. Другое дело, что это самосознание прошло своеобразный путь. В XIII–XIV веках оно проявилось (пассионарный взрыв Л. Гумилева). В XVI веке достигло своего пика (так называемый «золотой век»). В XVII–XVIII веках произошел постепенный, но неуклонный спад, когда терялись привилегии белорусской шляхты и мужик загонялся в крепостное ярмо, когда запрещались язык и национальная одежда (за то, что человек появлялся в шляхетской одежде в государственном учреждении, могли потащить в суд), когда само упоминание о Литовском государстве искоренялось не только из документов, но и из памяти. Сами же литвины стали называться белорусами, и это породило большую путаницу в дальнейшем. Все, что было связано с «Литвой», перешло на балтскую ветвь балто-славянского древа. Сначала исчезла разница между литвинами и литовцами, затем между литовцами и аукшайтами и жмудинами, а в результате Великое княжество Литовское было объявлено собственно литовским государством, летувисским, в котором славянский элемент был вторичным. Противопоставление Руси и Литвы, как это ни странно, было выгодно всем, востоку и западу, оно сознательно подогревалось католическим и православным клиром, его вводили как данность в ортодоксальную науку московские и варшавские ученые. Примитивизация истории часто бывает удобным и действенным средством в борьбе за сферы влияния, каждый раз мы сталкиваемся с ней и удивляемся как чему-то новому.
Но вернемся к национальному самосознанию белорусов. В XIX веке произошел новый толчок народного волеизъявления (опять пассионарность?). Выявилась определенная консолидация шляхты с крестьянством (восстание 1863 года), возникла литература, и к началу XX века вновь созрели условия для возникновения белорусского государства. Мы не будем затрагивать вопрос о формах государственности и о путях ее возможного развития в рамках тогдашней политической ситуации в Европе. Отметим только, что временной промежуток национального возрождения в Беларуси был необычайно коротким, и сразу за ним начался очередной упадок, размеры которого можно сравнить только с тотальной катастрофой. Глубина атрофии национального самосознания белорусов, конечно, была отягощена теми условиями, в которых оказался народ в XVII и XVIII веках. Экономическое и национальное угнетение страшно не в своих повседневных проявлениях, а в перспективе, сейчас это можно сказать определенно.