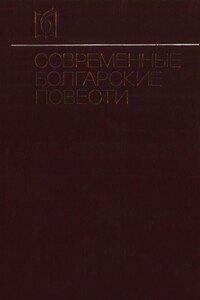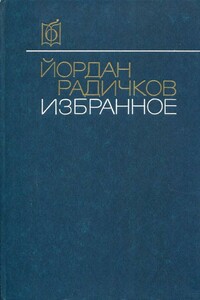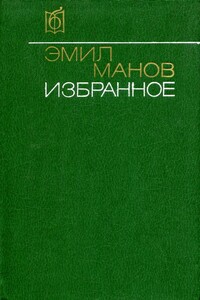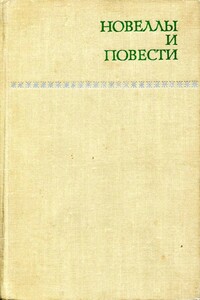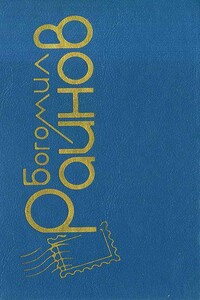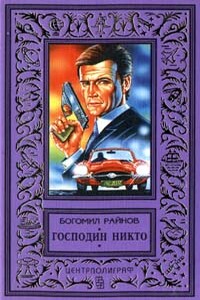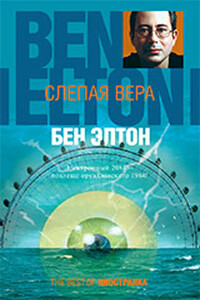Странное это ремесло | страница 44
Эти книги были иллюстрированы офортами, гравюрами на металле, а чаще всего на дереве, так как резьба по дереву играла когда-то ту же скромную, но полезную роль, какую теперь играет обычное цинковое клише. В этой графике коллекционеры превыше всего ценили произведения Доре, давно уже признанного крупнейшим представителем романтической иллюстрации. Точности ради следует вспомнить, конечно, великолепные литографии Делакруа к «Гамлету» и «Макбету», а также маленькие рисунки, выгравированные на дереве Домье. Но эти художники работали в области иллюстрации лишь от случая к случаю, тогда как Доре не только и, может быть, не столько благодаря своему таланту рисовальщика, сколько благодаря богатству фантазии и неистощимому трудолюбию стал истинным гигантом в этом роде искусства.
Кажется почти невероятным, что художник, проживший на свете всего пятьдесят лет, сумел создать несколько десятков тысяч иллюстраций, не считая литографий, акварелей, масляной живописи и скульптуры. Известны слова Доре: «Я проиллюстрирую все!» Все он проиллюстрировать не успел, но его творчество даже по объему превосходит все до сих пор известное: Библия, «Божественная комедия» Данте, «Дон Кихот» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, басни Лафонтена, сказки Перро, «Приключения барона Мюнхаузена», «Потерянный рай» Мильтона, «Озорные рассказы» Бальзака, сочинения Байрона, Теннисона, Колриджа и еще более ста книг украшены иллюстрациями Доре. Даже на смертном одре он продолжал беспокоиться только о работе, и последние его, обращенные к врачу, слова были: «Пожалуйста, вылечите меня, мне нужно закончить моего Шекспира».
Разыскивая «романтиков», я, естественно, усерднее всего охотился за изданиями с иллюстрациями Доре. Тут, как и в некоторых других случаях, счастье мне улыбнулось: эти работы, достигавшие в период между войнами фантастических цен, теперь крайне подешевели из-за легко объяснимого пренебрежения, с которым снобы стали относиться к классике.
Итак, с «романтиками» мне, в целом, повезло, чего не скажешь о так называемых «ансьен», то есть изданиях XVI–XVIII веков. И пришлось мне на протяжении многих месяцев и лет отшагать многие километры, перерыть многие книжные лавки, пока я уставил три полки томиками в старинных переплетах — произведениями римской, греческой и французской классики.
Конечно, эти книги тоже не предназначались для чтения. Сесть читать по латыни означало бы возвратиться к мукам гимназического курса. Некоторые из этих изданий даже не имели иллюстраций. Но это не умаляло радости, какая охватывала меня, когда я брал в руки «Гражданскую войну» Лукиана, рассматривал переплет с фамильным гербом какого-то маркиза Гомеца де ла Кортина, открывал титульную страницу, чтобы лишний раз удостовериться, что это парижское издание 1543 года, вспоминал, что это время царствования Франциска Первого и эпоха французского гуманизма и что, когда книга вышла из печати, Рабле еще не опубликовал последних частей своего шедевра, и — пусть это глупо и наивно — дивился тому, что в моих руках книга, которую другие люди перелистывали более чем за четыреста лет до меня. А в другой раз я брался за «Сатирикон» Петрония, изданный в Амстердаме в 1669 году, рассматривал гравюру на титуле, изображавшую оргии древних римлян так, как их представляли себе в Амстердаме, то есть наподобие голландской пирушки, и мне приходило на память, что в том самом 1669 году, когда вышла эта книга, скончался великий Рембрандт.