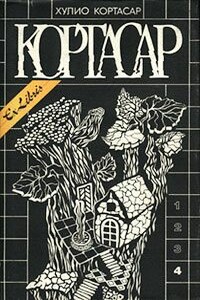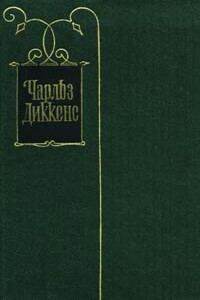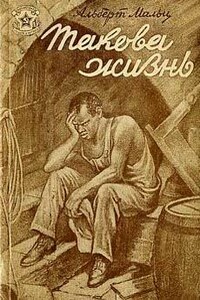Преследователь | страница 32
Незачем объяснять ему, его умственное развитие не доходит до понимания глубокого смысла этой невинной игры слов, передающих целую систему довольно оригинальных идей (Леонард Фезер[24] полностью поддержал меня, когда в Нью-Йорке я поделился с ним своими выводами), и что параэротизм джаза преобразуется со времен washboard[25], и так далее и тому подобное. Как всегда, меня опять развеселила мысль о том, что критики гораздо более необходимы обществу, чем я сам склонен полагать (наедине с собой, в дневниковых записях), потому что создатели – от настоящего композитора до Джонни, – обреченные на муки творчества, не могут диалектически оценивать результаты своего творчества, постулировать основы и определять значимость собственного произведения или импровизации. Всегда надо напоминать себе об этом в тяжелые минуты, когда становится худо от мысли, что ты – всего-навсего критик. «Имя сей звезде полынь», – говорит Джонни, и теперь я слышу его другой голос, его голос, когда он… Как бы это выразиться, как описать Джонни, когда он около вас, но его уже нет, он уже далеко? В беспокойстве слезаю с парапета, вглядываюсь в него. Имя сей звезде полынь, ничего не поделаешь.
– Имя сей звезде полынь,[26] – говорит Джонни в ладони своих рук. – И куски ее разлетятся по площадям большого города. Шесть месяцев назад.
Хотя никто меня не видит, хотя никто об этом не узнает, я с досады пожимаю плечами для одних только звезд. («Имя сей звезде полынь!») Мы возвращаемся к старому: «Это я играю уже завтра». Имя сей звезде полынь, и куски ее разлетятся шесть месяцев назад. По площадям большого города. Джонни ушел далеко. А я зол как сто чертей всего лишь потому, что он не пожелал ничего сказать мне о книге, и, в общем, я так ничего и не узнал, что он думает о моей книге, которую столько тысяч любителей джаза читают на двух языках (скоро будут и на трех – поговаривают об издании на испанском: в Буэнос-Айресе, видно, не только танго играют).
– Платье было великолепным, – говорит Джонни. – Не поверишь, как оно шло Лэн, но только лучше я расскажу тебе об этом за стопкой виски, если у тебя есть деньги. Дэдэ оставила мне каких-то вшивых триста франков.
Он саркастически смеется, глядя на Сену. Будто ему и без денег не достать спиртного и марихуаны. Джонни начинает толковать мне, что Дэдэ очень хорошая (а о книге – ничего!) и заботится о его же благе, но, к счастью, на свете существует добрый приятель Бруно (который написал книгу, но о ней – ничего!), и как хорошо было бы посидеть с ним в кафе, в арабском квартале, где никогда никого не беспокоят, особенно если видят, что ты хоть каким-то боком относишься к звезде по имени полынь (это уже подумал я; мы вошли в кафе со стороны Сен-Северэн, когда пробило два часа ночи, – в такое время жена моя обычно просыпается и вслух репетирует все то, что выложит мне за утренним кофе). Итак, мы сидим с Джонни, заказываем отвратный дешевый коньяк, повторяем по стопке и остаемся очень довольны. Но о книжке – ни слова, только пудреница в форме лебедя, звезда, осколки предметов вперемешку с осколками фраз, с осколками взглядов, с осколками улыбок, брызгами слюны на столе и на стакане (стакане Джонни). Да, бывают моменты, когда мне хотелось бы, чтобы он уже перешел в мир иной. Думаю, в моем положении многие пожелали бы того же. Но можно ли допустить, чтобы Джонни умер, унеся с собой мысли, которые он не хочет выложить мне этой ночью; чтобы и после смерти он продолжал преследовать и убегать (я уже просто не знаю, как выразиться); можно ли допустить такое, хотя бы это и стоило мне моего спокойствия, моей карьеры, авторитета, который так укрепили бы уже абсолютно неопровержимые тезисы и пышные похороны…