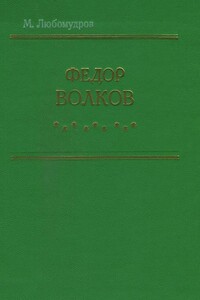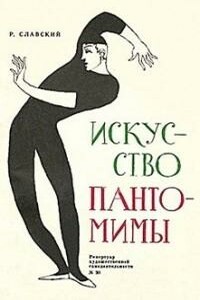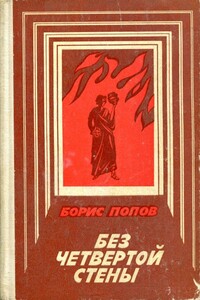Режиссерская школа Товстоногова | страница 12
Сегодня, высоко ценя вклад в театральное искусство многих выдающихся режиссеров, можно все же утверждать, что именно учение Станиславского оказало наиболее сильное воздействие на развитие театра и сценической педагогики всего XX столетия. Одно из ярких свидетельств этому — состоявшийся в марте 1989 года международный симпозиум «Станиславский в меняющемся мире». Главной задачей симпозиума было: 1) выявить, как взаимодействует метод Станиславского с современными театральными системами; 2) наладить творческий диалог практиков и теоретиков театра; 3) обеспечить живой плодотворный обмен театральными идеями. В симпозиуме, проходившем в Москве, приняли участие более 150 зарубежных гостей из Японии, США, Финляндии и Франции, Италии и Чехословакии, Великобритании. В рамках симпозиума с успехом прошла конференция, включавшая три темы: «К.С. Станиславский и психология художественного творчества», «Станиславский и новейшие театральные течения», «Станиславский и художественная культура XX века». Здесь художественный опыт, накопленный театрами разных стран, оценивался сквозь призму главных идей Станиславского, имеющих живые токи в современной сценической практике.
Школа Станиславского принадлежит не только вчерашнему дню. Какие бы театральные идеи вы ни исповедовали сегодня — «жестокий» или «эпический» театры, театр абсурда или авангардные его формы, эстетику постмодернизма или неореализма, — неизменным остается различие между «живым» и «не живым» театрами. Именно такое разграничение театральных направлений, предложенное П. Бруком, представляется мне принципиально важным. «Живой» или «не живой» актер, а значит «живой» или «не живой» театр? Что вы выбираете? Если вы сторонники «живого» театра, — необходим поиск путей к бессознательному творчеству актера, в первую очередь к органической природе человека-творца, потому что именно там — «ядро», обладающее неисчерпаемым запасом театральной энергии. Пробудить творческое вдохновение актера, его воображение, фантазию, пробудить подсознание актера и не мешать этому подсознанию свободно творить на сцене в условиях публичности — вот важнейшие цели школы Станиславского, применимой к любому театральному направлению. Если нам дороги эти цели, то учение Станиславского не может принадлежать только прошлому. «На полях последней рукописи он (К. С. Станиславский. —