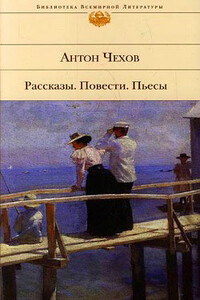Лето | страница 30
Кузин задумчиво продолжает:
- Может - недостижимо, но жить, веруя в такой мир, - это я понимаю, брат, хорошо с этим жить-то!
Поднялся Милов и тихонько сказал:
- А не пора ли по домам? Поехал он, этот...
Все засмеялись, кроме Савелия, - блестя глазами и грозя кулаком, он проговорил за один дух:
- Понимаю я теперь, почему они брызжут змеиной своей слюной яростно так, - куда им деваться, ежели народ на такой путь встанет, ага!?
- А расходиться пора! - сказал Егор, вставая с пола.
Савелий спросил:
- Кто здесь останется ночевать со мной?
Милов согласился с ним:
- Тебе по мокру вредно ходить, давай - я останусь.
Замечаю, что лесник смотрит на меня и подмигивает мне на дверь. Что бы это значило?
И остались все, кроме Кузина, меня, Егора и лесника.
Мы вылезли из ямы. Было темно и сыро, как в глубоком колодце. Дождь перестал, но ветер тряс деревья, и с них падали на головы нам крупные, тяжёлые капли дождя.
- Фонарь бы нам! - спотыкаясь, вздохнул Кузин.
- А ещё лучше - карету! - весело заметил Егор. - Архиерееву бы...
Лесник смеётся.
Под ногами быстро текут невидимые ручьи. Тяжело и плотно легла на грудь земли сырая ночь, и пьёт земля животворную влагу, захлёбываясь ею, как ребёнок молоком матери.
- Хорошо, брат, Егор Петров, речи ты говоришь! - ворчит Кузин, качаясь впереди меня и обильно брызгая водой и грязью на ноги мне. - А ты, Досекин, неладно! Ты, милый, нехорошо...
Егор спокойно отмечает:
- Ты, Пётр Васильич, на свой счёт сказанного мною не принимай, я тебя прошу.
- Всё равно! - говорит Кузин, но уже мягче. - Всё равно это, - я, не я.
Лесник дёрнул меня сзади за рукав и шепчет:
- Мне бы поговорить с вами надо...
- О чём?
- Дело есть. Тут сейчас тропа свернёт на сторожку мою - может, зайдёте? С версту всего. А они пускай идут...
Едва слышу его шёпот в шуме воды и шорохе деревьев, невольно замедляю шаг, а Кузин и Егор уже растаяли, скрылись во тьме, нырнув в неё, как рыбы в омут.
- Извините, - толкая меня, говорит лесник, - это и есть поворот... Вы Филиппа Иваныча знавали?
Вздрогнул я, насторожился, молчу.
- Который в город Налим, что ли, сослан был?
- Знал немного, - говорю, а у самого даже ноги дрожат с радости: Филипп-то дорогой мне человек, духовный крёстный мой, старый вояка и тюремный житель. Он и до переворота дважды в ссылке был, и после него один из первых пошёл. Человек здоровенный, весёлый и неуёмного упрямства в деле строения новой жизни.
- Где он? - спрашиваю, чувствуя уже, что друг близко.