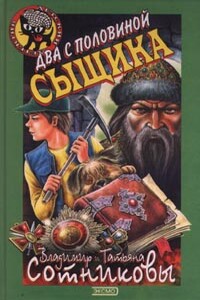Пролитая вода | страница 53
Медленно и осторожно, словно вспоминая недавний, незабытый еще сон, Тенишев думал о том, что прошедшей ночью встретился с чем-то неизвестным, неведомым, бывшим все же его собственной частью, – и это происходило с ним не впервые.
Он вспомнил стук в окно в той, другой, деревне, где жил последний год, приезд туда цыган. Тогда тоже в реальную, привычную жизнь вторглась часть неизвестного, неведомого ему существования. Словно из параллельной, невидимой жизни донеслись сигналы ее близкого проявления, доказывающие, что реальная жизнь истощается. Заканчивался ее очередной временной круг, заканчивалась живая сила. Неразгаданность, таинственность этих сигналов была настолько притягательна, что подробности обычной жизни казались пустым временем, и все желания и чувства выглядели случайными.
От таких мыслей сильнее билось сердце, начиная проваливаться в пустоту, но это не пугало, наоборот, кто-то внутренним голосом сопровождал каждый пустой удар легким придыханием: это ничего, не страшно, не страшно…
Обычный приезд в родительский дом, обычный вчерашний разговор за столом – и необычность ощущения немоты на уходящей улице, тяжесть ног, приросших к земле, как только он вышел из автобуса, необычность видения ночного всадника – вот два берега внутренней жизни, которую чувствовал в себе Тенишев. И как только он начинал узнавать сигналы с другого берега – понимал, как угасает и меркнет жизнь на этом, ближнем.
Единственное, чем он мог отвечать на эти сигналы, было простое желание уехать, поменять место своего существования, чтобы обмануть самого себя нехитрым способом действия, движения.
Глядя на безлистные уже ветки яблони, Тенишев улыбнулся, вспомнив слова другого человека: «Нет, жизнь не кончена…» Сладко потянулся и застыл в потягивании: он же совсем забыл, что в столе, в той деревне, где работал в школе, уже давно лежит раскрытый и забытый по какой-то причине конверт с приглашением, нет – вызовом, ведь так назывался этот сложенный вчетверо лист бумаги, прилетевший к нему из другой, далекой жизни.
И когда одевался, ходил по комнатам, умывался на кухне – мать поливала из кружки, уговорив не выходить к умывальнику на холод, – чувствовал, что прощается. С домом, с тихими его стенами, с водой, протекающей сквозь пальцы, со спокойно горящим огнем в печи. Огонь мягкими горячими языками вылизывал кирпичный свод, дым выползал в черную трубу, улетал, чтобы рассеяться над домом, над деревней в высоком холодном небе. И хотелось быть частью дома, стенами, окнами, водой, огнем и дымом. Это – прощальная, печальная любовь, когда сам растворен во всех предметах и смотришь из них на себя, уже уносимого в будущие мгновения.