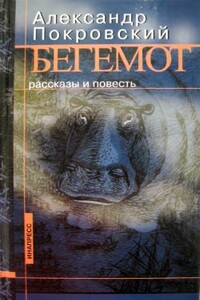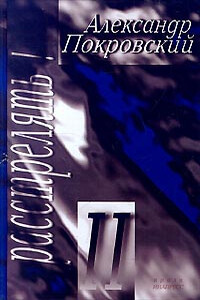Иногда ночью мне снится лодка | страница 25
Конечно же, причиной его ненависти были уши, как он раньше не понимал.
Ему вдруг захотелось их потрогать, чтоб ощутить отталкивающую упругость и увериться в своем отвращении.
Он даже обрадовался этому желанию и, можно сказать, даже полюбил эти уши в тот момент не меньше, чем ребенок, который любит неопрятную плошку, которую он только что вылепил из сырой глины.
Он тихо смотрел на них именно как создатель, ну, как первооткрыватель, по меньшей мере.
Он даже придумал сцену и сейчас же воплотил ее, сделав вид, что у того бедняги что-то есть там за ухом.
«Что это у тебя там?» – спросил он озабоченно. – «Где?» – отозвался тот, выпрямившись, вглядываясь в зеркало. – «Да вот, – и он потрогал его за ухо, очень довольный тем, что ему это удалось. – Да нет, ничего, показалось, мыло, наверное». – «А-а…» – сказал тот успокоено и продолжил плескаться.
А он немедленно отдался изучению всех оттенков полученного впечатления: уши оказались очень мягкими, почти ласковыми на ощупь; значит, дело не в них, хотя и эта их ласковость, безусловно, будила в нем какое-то раздражение. Но причину его ненависти следовало бы искать не здесь, а где же?
И тут ему отрылось, и произошло это тотчас же, как только тот – умывающийся – приступил к вытиранию мохнатым полотенцем шеи, лица, которые из-за этого предприятия представились единым целым. Он проделывал это с гримасой огромного удовольствия, казалось, он стирает полотенцем кожу, так быстро и ловко он перехватывал его на лету, ну совсем как подхватывающая удлиняющиеся куски сырого теста женщина, занятая изготовлением лаваша.
Он понял, что ему ненавистна именно эта, открывшаяся в обтирании, жажда телесных удовольствий, виденная им десятки раз, но только сейчас осознанная; эта бодрость, жадность, ловкость, и та сила, с которой человек это делал, та страсть, с которой он предавался подобному занятию, та почти звериная радость, что лучилась в каждой складке его тела, то разухабистое кряканье.
Он чувствовал, что ненавидит силу чужой жизни.
«Ну, зачем так яриться, – подумал он об умывающимся, – ведь через час все равно придет сон?»
А потом он посмотрел на себя в зеркало: лицо его выглядело усталым, злым, но лишь только взгляд его сместился немного в сторону, лишь только он потерял свою остроту и упрямую неподвижность, как ему показалось, что оно сделалось чуть ли не жалким, разве что не молящим, и это было отчаянно неприятно осознавать, и он принялся почти столь же поспешно, как и предшественник, плескаться и чуть ли не так же, чуть ли не с такой же силой обтираться после.