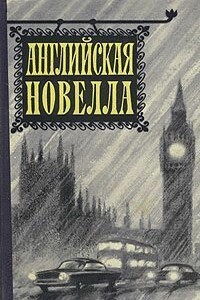Молодая кровь | страница 4
— Вот поди же, — говорила старуха, — все эти богатые белые толкуют, что рабство было хорошее дело, что были какие-то добрые хозяева. Выдумки это, милуша! Я тебе уж миллион раз говорила. Если хозяин был хороший человек, он рабов не держал, а отпускал их на волю. Белые часто говорят, что рабы плакали, когда мистер Линкольн объявил нам свободу. И верно, плакали, милая. Еще бы не плакать! Господи! Тогда не было ни одного негра с сухими глазами. Мы все плакали от радости и кричали «Аллилуйя!» — Бабка глянула на Лори, сидевшую на ступеньке, и тихонько запела, раскачиваясь взад и вперед:
Лори Ли слушала бабку, и ей казалось, что она возносится на большущем серебристом облаке высоко вверх — прямо к яркой багровой луне. Старуха перестала петь и, сухо засмеявшись, посмотрела на девочку.
— Господи, столько времени прошло с тех пор, моя куколка, а мы все еще не свободны!
Вдруг Лори вспомнила то, что сегодня случилось с ней в переулке, — и этого противного белого и все остальное. Словно камень лег ей на сердце, и она поспешно отвернулась, чтобы не выдать себя.
— Что с тобой, куколка? — спросила бабка.
— Ничего, мама Большая, — начала было девочка, но голос у нее сорвался, глаза заволокли слезы, она уж больше не могла таиться и разрыдалась. Начала рассказывать — сперва бессвязно, отрывочно, а потом все подряд, горячо, взволнованно, задыхаясь от гнева.
В глазах матери застыл ужас, и девочка испугалась,
— Ты только папе ничего не говори! — умоляюще воскликнула Марта. — Прошу тебя, сахарок мой, не вздумай ему рассказывать! Ведь он сразу побежит к ним, и они его убьют. Наверняка убьют!
Лори посмотрела на бабушку, которая в молодости была рабой. Старуха спокойно сидела в своей качалке, ее морщинистое лицо, обращенное к вечернему небу, было непроницаемо, глубокие темные глаза казались теперь совсем черными. Попыхивая кукурузной трубочкой, она начала говорить. Говорила сдержанно, как человек, сердце которого, закалившись в неволе, научилось ненавидеть и быть непримиримым.
— Не плачь, моя сладкая, — сказала она, поглаживая плечи девочки своими жесткими костлявыми руками. — Возненавидь их, прости меня господи, но не трать ни единой слезинки! Эти вечные слезы ведь ни черта не помогают!
Она затянулась два-три раза и, сощурившись, наблюдала за серым табачным дымом.
— Всегда так было, моя куколка! Господи, эти проклятые белые что хотят вытворяют с нашими женщинами, а мужчины наши даже сейчас пикнуть не смеют!