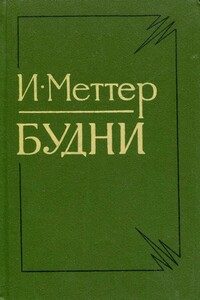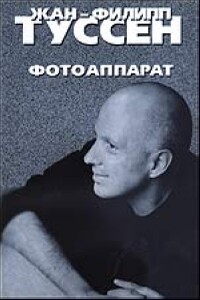Пятый угол | страница 44
Мне было проще, нежели другим преподавателям. Мне не приходилось присаживаться перед моими студентами на корточки, я стоял перед ними в рост. Их благоговейное отношение к арифметике не казалось мне наивным. Постигнутое деление десятичных дробей приводило их в восхищение, которое я разделял вместе с ними. Для меня было чудом, что я могу их чему-то научить.
Способ, при помощи которого я это делал, был изобретен мной в одиночку. Комвузовцы не воспринимали абстрактных категорий. А я хотел быть понятым во что бы то ни стало. Проявляя нечеловеческую изворотливость, я пытался находить любому математическому понятию употребление в повседневной действительности.
— А где это применяется в жизни, на практике? — каждодневно спрашивали меня студенты.
Вопрос этот не возмущал меня. В ту пору я считал его совершенно естественным. Мне представлялось непреложным, что даже политические события могут быть рассмотрены в аспекте математики. Я сочинял задачи на производственные темы, на оборонные, на колхозные. Были у меня задачи «на вредительство» и «на партийные уклоны».
Я был убежден, что математика — наука классовая. Спрос на эту точку зрения был велик, я искренно разделял ее и проповедовал. Глаза моих студентов загорались нездоровым пламенем, когда я рассказывал им, что есть математика кулаков и математика рабочих в союзе с беднейшим крестьянством.
В «Анти-Дюринге» и в «Диалектике природы» я выискал три-четыре примера, сгодившихся для обоснования моей позиции, Фридрих Энгельс здесь ни при чем.
Сейчас, оборачиваясь на то время, я с особенной тщательностью хотел бы соблюсти непотревоженным мое тогдашнее мироощущение. Однако мне трудно не понимать сейчас, что именно в те годы вызревала внутри людей готовность к ослеплению верой. Все дело, мне кажется, в том, что вера, направленная, как фары, на дорогу, по которой идешь, освещает хоть крохотный кусок твоего длинного пути, а вера, бьющая светом в глаза, — слепит. Фары того времени лупили в лицо, в упор.
По крайней мере, со мной было именно так. Пик некоторых моих заблуждений пришелся на тридцать первый год. Это не значит, что впоследствии я с легкостью разбирался в том, что хорошо и что гадко. Я только стал позволять себе роскошь заблуждаться самостоятельно. Тем горше, между прочим, прозрение.
Втуз-городок строился километрах в пяти от Свердловска.
Здесь, в чистом поле, в степи, наскоро ставили громадные неуклюжие корпуса. Улиц между ними не было, казалось, что раскинулся тут под просторным небом каменный цыганский табор. Шестиэтажные шатры пестрели разноцветными заплатами: низ был выложен из красного кирпича, а дальше шло в дело все, что попадалось под руку, — серый, белый и желтый камень.