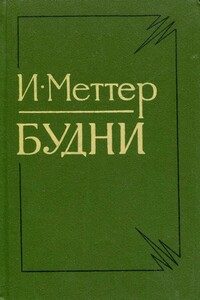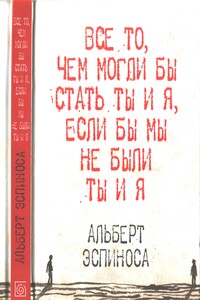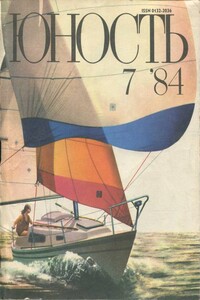Пятый угол | страница 35
Этот выстрел решил судьбу их отношений. Катя ухаживала за Тышкевичем, покуда он болел. Она вкладывала в это столько своей вины и восхищения его мужеством, что уже ничего другого не оставалось, как наградить Болеслава самым дорогим, что у нее было, — собой.
Их брак привел родителей Кати в ужас. Чекист у самовара, за чайным столом, в доме Петербургского профессора — этого Анна Гавриловна вынести не могла. Она прокляла бы дочь, если бы не знала, что Кате наплевать на ее проклятие. Федор Иванович ужасался вслед за своей женой — он все, кроме своей работы, делал вслед за Анной Гавриловной, — но борьба с заразными болезнями занимала его глубже, нежели то, что делалось дома у самовара.
— Я требую, чтоб ты поговорил с ней, Федор, — теребила его Анна Гавриловна.
— Непременно, — кивал он.
— Катенька, — ловил он свою дочь в коридоре мединститута, — нам бы надо с тобой обсудить…
Поднявшись на цыпочки, она целовала его в щеку.
— Я сидела на твоей лекции, ты у меня просто прелесть, папочка!
— Тебе правда понравилось?
— Ужасно! И всем нашим девочкам — тоже!
Вспомнив тягостную отцовскую обязанность, Федор Иванович бормотал:
— Дело в том… — Дело в том, что мама просила тебя поговорить со мной. Ее не устраивает Тышкевич. А меня не устраивает, что ее не устраивает. Я могу не бывать у вас дома. А ты ко мне будешь приходить на тайные свидания, хорошо, папа?
Растерявшись, он отвечал:
— Хорошо.
Дома Анна Гавриловна спрашивала у него:
— Ты поговорил с ней?
— Поговорил.
— Ну и как она реагировала?
— Обещала подумать.
Этот брак был обречен с первого дня. Он был основан на Катином восторге. Когда восторг протерся и залоснился на сгибах каждодневного общения, то внезапно оказалось, что Тышкевич вполне ординарная личность. Его многозначительная молчаливость объяснялась тем, что ему нечего сказать.
У всех у нас был в то время надежный способ, при помощи которого мы оценивали человека, — стихи. Никто из нас, кроме Саши Белявского, не писал стихов, но страсть к ним представлялась нам непреложной.
Когда мы выли Блока и Гумилева, Маяковского и Пастернака, у Болеслава Тышкевича глохло лицо. Он смотрел на нас вежливо-мертвыми глазами. И этого Катя не могла ему простить.
Я хорошо понимаю, насколько легковесно было судить о людях по этому поэтическому принципу. Но как быть, если даже сейчас мне все еще продолжает чудиться, что человек, расцветающий от строчек: или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыплется золото с кружев розоватых брабантских манжет, — что человек этот догадывается о чем-то, о чем догадываюсь и я. Это как бы пароль для прохода назад, в мое поколение.