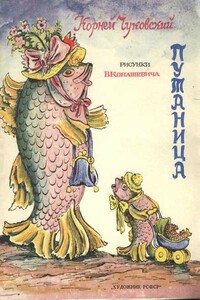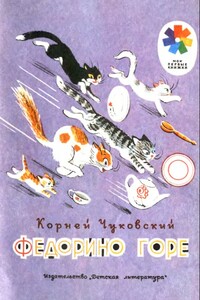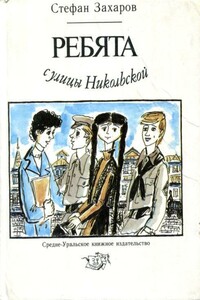Серебряный герб | страница 28
Только бы прошла большая перемена! А потом уж нечего бояться!
Следующий урок после большой перемены — латынь. Мои товарищи ее терпеть но могут. Я же с самого первого класса полюбил этот язык, как родной. Всякое латинское слово кажется мне драгоценностью: оно такое красивое, простое, благородное, гордое, звучное, что я рад повторять его множество раз, как повторяют любимую песню. И я знаю, что, если Игнатий Иваныч Кавун, наш латинский учитель, вызовет меня сегодня к доске, он будет после каждого ответа кивать мне румяной своей головой и приговаривать „бене“ („бене“ по-латыни „хорошо“). Кавуна мне бояться нечего. Кавун всегда и везде за меня.
А потом география. Тоже не страшно. Многоводные реки Сибири — Хатанга, Ангара, Индигирка, Лена, Анадырь, Колыма.
А потом домой, к себе на Рыбную!.. А дома — дядя Фома! А завтра воскресенье! А в погребе — еж! А ко мне придет мой любимый Тимоша, самый закадычный мой друг!
Глава девятая
„Ни в парадный, ни в чёрный!“
Мы подружились с Тимошей еще в первом классе, на девятом году нашей жизни, чуть только он поступил к нам в гимназию.
Помню, тогда в коридоре возле нашего класса полыхнуло из печки пламя; кто-то сказал: „Пожар!“ Это испугало Тимошу, и он признался, сильно заикаясь:
— У м-м-меня инда сердце трепещет.
И даже не „трепещет“, а „тряпещет“. Многие из нас, несмотря на испуг, засмеялись: таким необычным показалось нам это „инда“ и это „тряпещет“. Тимоша только что приехал из Архангельска, и его северная русская речь, без всяких примесей нашего южного говора, показалась большинству диковатой.
Никому из нас он тогда не понравился: веснушчатый, с большими ушами, заика. Заикаясь, он брызгал слюною, и все убегали от него, не дослушав. А он, как и многие заики, любил говорить. Я единственный с первых же дней стал его терпеливым и снисходительным слушателем.
Сначала я слушал его только из жалости, чтобы но обидеть его. Но вскоре произошла очень странная вещь, которой я до сих пор не могу объяснить: разговаривая со мною, Тимоша почти перестал заикаться. В разговоре с другими он заикался по-прежнему, но когда мы оставались вдвоем, речь его становилась текучей и гладкой, как у всякого другого мальчишки. На том чудесном северном наречии, которое он привез с собою с Белого моря к Черному, он рассказывал мне о Синдбаде-Мореходе, о птице Рох, о лампе Аладдина, о волшебных пещерах, наполненных золотыми сосудами, о подземных садах, где копошатся чудовища, и, главное, о контрабандистах и веселых разбойниках, которых он будто бы видел своими глазами.