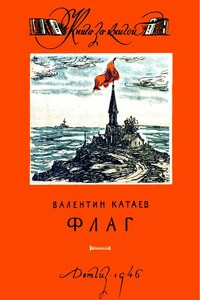Алмазный мой венец (с подробным комментарием) | страница 33
— Богом тебе клянусь, вот святой истинный крест! — Он поискал глазами и перекрестился на старую трактирную икону. — Хошь верь, хошь не верь: я ее любил.>{161} И она меня любила. Мы крепко любили друг друга. Можешь ты это понять? А то, что ей сорок, так дай бог тебе быть таким в семьдесят!
Он положил свою рязанскую кудрявую голову на мокрую клеенку и заплакал, бормоча:
— …и какую-то женщину сорока с лишним лет… называл своей милой…
Вероятно, это были заготовки будущего «Черного человека».>{162}
Уже тогда, в первый день нашей дружбы, в трактире на углу Чистых прудов и Кировской, там, где теперь я видел станцию метро «Кировская» и памятник Грибоедову>{163}, я предчувствовал его ужасный конец. Почему? Не знаю!
Примерно года за полтора до этого мне удалось вытащить в Москву птицелова.>{164} Казалось, что, подобно эскессу, он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом.
Он уже был женат на вдове военного врача.>{165} У него недавно родился сын.>{166} Он заметно пополнел и опустился. Жена его, добрая женщина, нежно его любила, берегла>{167}, шила из своих старых платьев ему толстовки>{168} — так назывались в те времена длинные верхние рубахи вроде тех дворянских охотничьих рубах, которые носил Лев Толстой, но только со складками и пояском. Он жил стихотворной, газетной поденщиной в тех немногочисленных русских изданиях, которые еще сохранились.>{169} Украинский язык ему не давался. Он жил в хибарке на Молдаванке. Его пожирала бронхиальная астма. По целым дням он по старой привычке сидел на матраце, поджав по-турецки ноги, кашлял, задыхался, жег специальный порошок против астмы и с надсадой вдыхал его селитренный дым.>{170}
Но стихи «для души» писать не бросил.
По-прежнему в небольшой комнате с крашеным полом, среди сохнущих детских пеленок и стука швейной машинки>{171}, среди птичьих клеток его окружали молодые поэты, его страстные и верные поклонники, для которых он был божеством>{172}. Он читал им свои и чужие стихи, тряся нестриженой, обросшей головой со следами былого пробора, и по-борцовски напрягал бицепсы полусогнутых рук.
Приехав из Москвы и увидев эту картину, я понял, что оставаться птицелову в Одессе невозможно. Он погибнет. Ему надо немедленно переезжать в Москву, где уже собрался весь цвет молодой русской советской литературы, где гремели имена прославленных поэтов, где жизнь била ключом, где издавались русские книги и журналы.
На мое предложение ехать в Москву птицелов ответил как-то неопределенно: да, конечно, это было бы замечательно, но здесь тоже недурно, хотя, в общем, паршиво, но я привык. Тут Лида и Севка, тут хорошая брынза, дыни, кавуны, вареная пшенка… и вообще есть литературный кружок «Потоки»