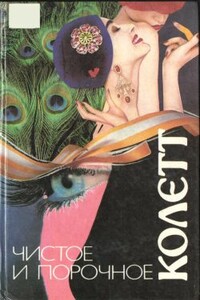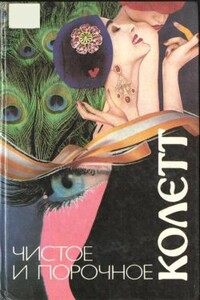Сидо | страница 31
Два дикаря, лёгконогих, костлявых, без лишней плоти, простые, подобно их предкам, предпочитавшим мясной пище ситный хлеб, твёрдый сыр, салат, свежее яйцо, тартинку со сливами или тыквой. Суровые и целомудренные – настоящие дикари…
– Что с ними делать? – вздыхала мать.
Они были так дружны, что никто не мог их разлучить.
Старший верховодил, младший же больше предавался фантазиям, заслонявшим от него весь мир. Но если старший знал, что вскоре ему предстоит начать свои медицинские штудии, то младший втайне надеялся, что ему никогда не придётся начинать ничего, кроме грядущего утра, кроме того часа, что позволяет убежать от городского напряжения, отдавшись свободе мечтать и безмолвствовать… И он всё ещё на это надеется.
Играли ли они? Редко. Вернее, их любимой игрой был весь лучезарный сельский мир, и в нём они хотели взять лучшее, то, что расцветает и возрождается вдали от людских толп. Их невозможно было представить себе робинзонами или первопроходцами, они были лишены актёрского дара импровизации. Младший, однажды принимавший участие в труппе мальчиков, увлечённо разыгрывавших трагедию, сподобился в ней только немой роли «глупого дитяти».
И когда у меня, как у всех стареющих людей, пробуждается торопливый зуд вспомнить все тайны бытия давно отторгнутого, я обращаюсь к рассказам матери. Прочесть «код» непоседливой юности, с каждым часом уходящей в небытие и чудесным образом возрождающейся из самой себя; снова взобраться, опираясь на чью-то неизвестно откуда протянутую руку, на те холмистые выси, откуда суждено им было низринуться в кипящий людской водоворот, прочитать по складам имена неблагоприятных звёзд…
Я простилась с покойным несравненным старшим братом; но мне вновь придётся прибегнуть к материнским рассказам и крупицам, оставшимся от моего уходящего детства, коль скоро я стараюсь понять, как вырастал тот седоусый шестидесятилетний человек, который проскальзывает ко мне, едва опускается ночь, открывает мои часы, смотрит, как трепещет быстро бегущая секундная стрелка; отклеивает от измятого конверта иностранную почтовую марку; вдыхает, словно ему весь день не хватало дыхания, долгий, занесённый сюда порывом ветра музыкальный пассаж из «Колумбии» и, не сказав ни слова, уходит прочь…
Да, этот седовласый человек – тот самый шестилетний мальчуган, который бежал за нищими музыкантами, когда они проходили через нашу деревню. Одноглазого кларнетиста он провожал до деревни Святых – четыре километра, – а когда вернулся, мать уже обшарила все колодцы в округе. Он покорно выслушал жалобы и упрёки, ибо вообще редко сердился. Когда же улеглась материнская тревога, он подошёл к пианино и без ошибки сыграл все арии кларнетиста, при этом обогатив их простейшими, слишком правильными украшениями.