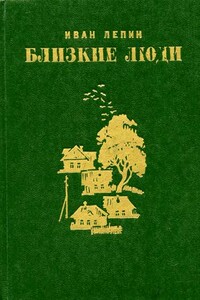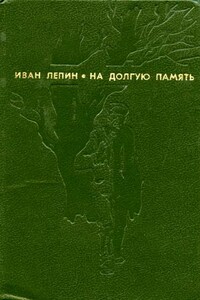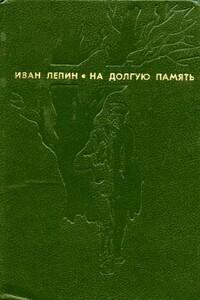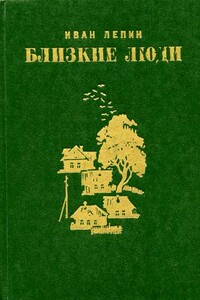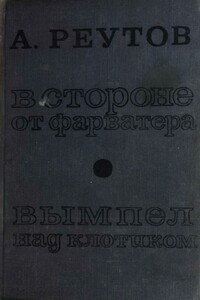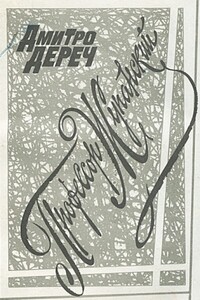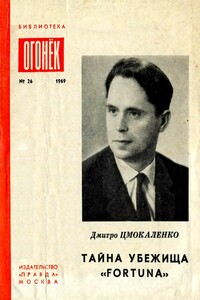На долгую память | страница 21
Путь наш лежал через поселок Уральск. За ним — башкирская деревня Байрамгулово. Старинная (деревья возле домов — в два обхвата), она протянулась одной улочкой вдоль угора километра на три.
Посреди деревни Володя неожиданно свернул к небольшой избенке, стоявшей на высоких столбиках.
— Будем пить кумыс, — вдруг объявил он.
И тут я только заметил табличку на избенке: «Кумысная».
Володя бойко вбежал по ступенькам, без обиняков открыл дверь и резким движением захлопнул ее за собой.
— Его тут все знают — один совхоз, — пояснил Захар Николаевич, выходя из машины.
Вскоре появился Володя. В руках он держал два стакана, доверху налитые кумысом.
— Пейте, — подал он мне стакан. — А это, дядя Захар, вам. Я уже попробовал.
Захар Николаевич кивнул мне: давай, мол, приступай, я-де обещал напоить тебя кумысом, слово держу.
И вот я медленно цежу сквозь зубы кислое-прекислое кобылье молоко. Треть стакана выпил — остановился. В желудке запекло, заурчало. Как бы не отравиться…
— Пей смелей — ничего не случится! — подбадривал Володя.
Ладно, будь что будет, трус в карты не играет, двум смертям не бывать, а одной не миновать. К тому ж это не какая-то сивуха, а кумыс, весьма полезный, говорят.
С трудом опорожнил стакан, а Захар Николаевич мне еще подносит:
— Вволю давай! Чтоб с полным основанием мог дома сказать: я пил кумыс! Не пробовал, а пил!
Делать было нечего, взял второй стакан. А в животе уже пекло по-настоящему, вроде бы я проглотил горячий уголь.
От второго стакана у меня стали подкашиваться ноги.
— Еще? — поддразнивал Володя.
— Довольно! Аж захмелел… Хороший сюрприз ты мне преподнес.
Захар Николаевич, довольный, протирал очки:
— Это я Володе подсказал: напои гостя кумысом.
— Спасибо.
За Байрамгуловым, слева от дороги, горы пошли покруче, полесистее. Все чаще березы и тополя уступали место темно-зеленым елям и соснам.
Огонь у меня внутри потихоньку потухал, становилось легче.
Справа петляла неширокая речка, берега ее густо поросли кустарником.
— Урал, — сказал Захар Николаевич. — Сейчас обелиски будут.
И верно: минут через пять мы остановились у мостика через реку. На одном его конце стоял высокий конусообразный обелиск с надписью: «Азия». На другом — такой же. Только надпись иная: «Европа». Мы ехали в Европу.
Захар Николаевич велел мне встать на фоне «Азии». Навел фотоаппарат:
— На добрую память…
Я стоял, ждал, пока вылетит из фотоаппарата «птичка», и вспомнил свою первую учительницу географии Елену Павловну. Вспоминал, как гоняла она нас у карты, заставляя четко и ясно показать границу между Европой и Азией. Проходила та длинная граница и по реке Урал. Почему-то мне тогда казалось, что граница должна быть непроходимой и непроезжей или что стоят на ней вооруженные люди и не пропускают через нее кого зря. «Вам в Азию нужно? — спрашивали они. — Зачем? Просто так? Не пойдет. Вот если земли новые открывать — как Хабаров, Поярков, или в поход, подобно Ермаку, тогда — пожалуйста. А просто так — не пустим». И загораживали дорогу пиками.