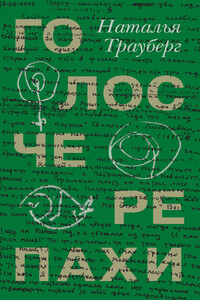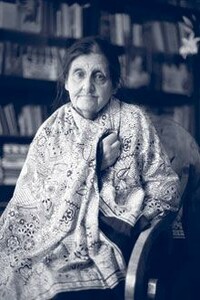Сама жизнь | страница 75
Можно было бы написать о них отдельную статью; вообще-то о них и написано очень много, потому что речь идет о социальных делах. Но сейчас я
хочу сказать только об одном: у Иоанна Павла II есть кусочек текста, который трудно читать без слез, хотя, как всегда в энцикликах, там нет ни малейшего пафоса. Римский первосвященник сдержанно вспоминает первую половину 1980-х, когда так трудно было в Польше, опасно – во всем мире и (прибавлю от себя) невыносимо здесь, у нас.
Бог милостив, именно эти годы я провела между Россией и Польшей, то есть в Литве. Милость тут значит, что, как ни странно, в Литве было не так невыносимо, как в России, и не так трудно, как в Польше. Помню, из Литвы посылали в Польшу сахар. Граница была закрыта, но однажды появился священник, похожий скорее на бомжа. Совершенно не представляю, каким образом он добрался, но мало того – из Литвы, прихватив одну монахиню (все они тогда были тайные), он поехал в Москву- подбодрить тех, кто уж очень страдал за Польшу. Утешения у него были исключительно те, что Бог не оставит, а Папа все время молится.
Только что я написала, что в Литве было не так невыносимо. Это неверно. Точнее сказать – «на острове Лапута», или, еще точней, «в городе Китеже». Обычная Литва к этому времени стала наконец довольно советской, научившись не работать, огрызаться и даже приставать на улице с упреками типа: «Что ж это у вас пальто запачкано?». Она пожухла, как ни красили старый Вильнюс в конфетные цвета, и – в отличие от 1950-х или 1960-х – о Европе почти не напоминала. Усилилась и нелюбовь к русским, и сходство с ними, причем похожи они стали на советских, а не любили именно русских, даже если в них ничего советского не было. Однако Лапута или Китеж там оставались, а здесь – не знаю. Наверное, тоже (бывает ли без них?), но я бы не заметила, иначе Бог не спрятал бы меня в Литву на четыре с половиной года, с осени 1979-го до лета 1984-го.
Что же происходило в этом Китеже? Описать это нельзя, как вообще ничего нельзя описать – в словесности мало измерений. Можно сказать иначе: как передать бесконечно малые, как передать интегралы? Ну, интегралы еще туда-сюда, но скорее не словами. Может, музыкой? Или обликом города вместе со всеми изменениями неба? Не знаю.
Однако средство для описания есть, теперь его называют мифом. Расплодились и писатели такого рода – Уильяме, Толкин, Льюис. Средство это опасное, нестойкое, оно очень быстро превращается в муляж, да еще злобный, «наши» – «ваши». Но некоторые сумели им пользоваться, и лучше всех, по-моему, Честертон.