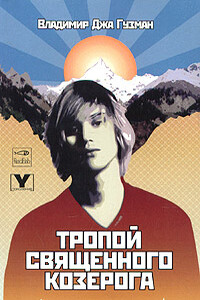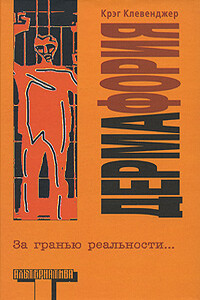Echo | страница 65
Это даже меня развеселило секунды на три — тоже мне Кастанеда алкоголизма! И подпись ещё:
«Алкофилософия: Введение в алкофилософию и основные принципы: Ч. 1. — М.: Отстой, 2001. — С. 53»!
Другой компонент «ухода в жук» — визуальный, открытый нами совсем недавно и случайно, но отдельно от которого теперь «Тиамат» не вос-принимается — раскрытый непременно на фигурках Босха или Брейгеля альбом «Искусство эпохи Возрождения» — пятикилограммовый фолиант эпохи 50-х годов с тёмными чёрно-белыми репродукциями. Репорепродукциями — по словам Репинки, она его умыкнула из библиотеки — каким образом такое можно сделать с таким крупным предметом да ещё известными реполапками, мы с О. Ф. даже не предполагаем; однако пользуемся с радостью (вернее, с меланхолией), нашли применение.
…Жук одолевал, я не представлял уже, звучит ли монотонно вода. От усталости и воспринятого за весь день алкоголя мозг уже отключается, но завалиться спать как нормальный человек я не могу — я боюсь потерять сознание даже таким естественным образом, а что уж говорить про другие, и из-за этого наползает бред, ужас…
Я то сидел, глядя на картинку, то на лампочку — и всё белело вокруг, ослепляло и какое-то слово возникало в голове, двоилось, троилось, повторялось, дробясь на мизерные, частые, учащённые до сплошной тошнотворной белизны эхоповторы. Было настолько неприятно, что не хотелось жить, нужно было разбить голову об кафель. После удара растекалась адская боль — и нельзя дотронуться даже до волоска на голове. Всё белое даже когда вырываешься из бреда — это белый дым (я накурил); трясясь, чисто механически я вставал, наливал чай (вернее, холодный кипяток без заварки, потом просто воду из крана) и глушил, глушил. Но одна мысль красной струйкой сочилась с лампочки в этих белых клубах дыма и белых разводах света от лампочки — сейчас кончится «Тиамат», и я, извиваясь и кривляясь, как Микки Маус иль Плуто, подойду (подбегу) к двери, постучу и профанистично, имитируя интонации истеричной матери, провякаю со специфическим ударением-затягиванием второго слога: «Са" ша-а", Са" ша-"а!».
На самом интересном месте моей мысли дверь ванной распахнулась и вышел О. Фролов. Он был голый, с него лилась вода, лицо его было красным, волосы взъерошены. Он плакал, он весь трясся, он, согнутый и сочащийся, двинулся ко мне. Грязным пакетом с облупившейся картинкой, изображающей группу пидоров, баб и негров, довольных как от ганджи, а раскуривающих всего-навсего какой-то «Кент», он сжимал одной рукой вторую руку.