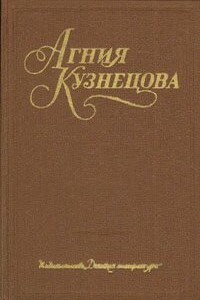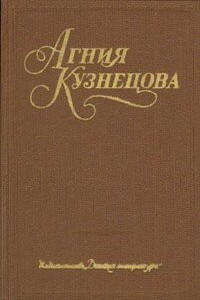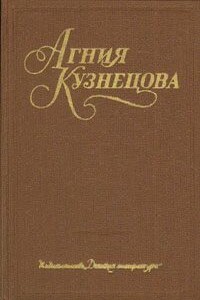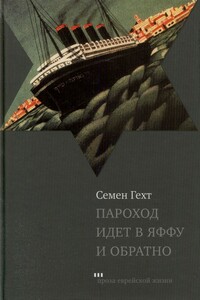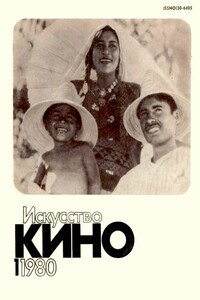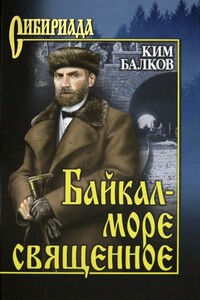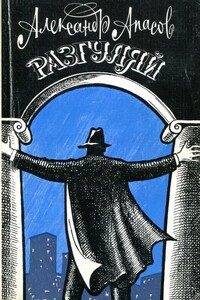А душу твою люблю... | страница 84
В дверях появляется сияющая, но сдержанная Мария – младшая дочь Прасковьи Осиповны.
– Как хорошо, что все вы тут! – обрадованно сказал Пушкин, до слез тронутый сердечной встречей, и любовно окинул взглядом своих друзей.
И вспомнилось:
Он в этот день успел обегать все и в Тригорском. Посидел на «онегинской» скамье, постоял возле баньки, среди лип, над Соротью.
А затем стал часто бывать и в Голубове, имении барона Вревского, за которым замужем была Евпраксия Николаевна. Он помогал им закладывать сад: копал гряды, сажал деревья и цветы, рыл пруд.
Так началось пребывание в Михайловском. Он понемногу писал.
А когда не писалось, бродил по Михайловскому и вспоминал…
9 августа 1824 года. Он приехал сюда с верным дядькой своим Никитой. Родители вскоре уехали, и он остался один. Выбрал комнату себе окнами во двор, на юг, чтобы солнце, которое он боготворил, освещало его стол, рукописи, портрет Байрона на стене и ласкало его самого.
В начале ссылки его охватило привычное с детства чувство бешенства. Он видел, как шпионил за ним священник Ларион Воронецкий, как насторожилась семья: родители, брат, сестра.
Потом он затих. Пригляделся и полюбил аллеи Михайловского, темные стволы деревьев, верхушками, казалось, упиравшиеся в небо, они разговаривали с ним на языке позолоченных осенью листьев. Полюбил неторопливый бег Сороти и зеркальную гладь прудов. И понял, что здесь, только здесь он может по-настоящему писать.
Его стали интересовать простые люди, окружавшие его. В Михайловском было всего 17 душ крепостных. Он бывал на крестьянских свадьбах, с удовольствием проводил время в людской, посещал ярмарки, крестил деревенских ребятишек.
Ему полюбилась балалайка, даже научился играть на этом с виду нехитром инструменте.
В начале декабря 1824 года он писал Д. М. Шварцу:
Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны.
«Тогда я узнал тайну русского сердца, тайну русской речи, – говорил Пушкин Наталье Николаевне, вспоминая годы изгнания. – И теперь все это стало неповторимо моим. Нет, ничто не проходит зря».
Александр Сергеевич страстно любил живопись. Этот род искусства для Натальи Николаевны вначале был далеким, но постоянное посещение выставок, знакомство с художниками сформировали вкус, заинтересовали ее, а потом она полюбила живопись, стала разбираться в ней.