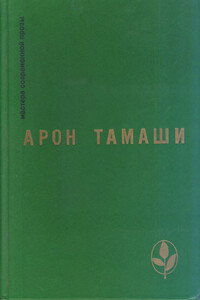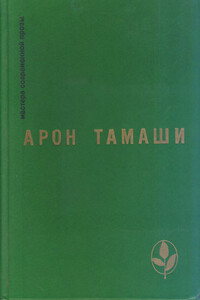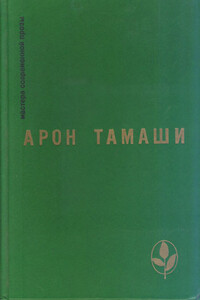Птичка-невеличка | страница 4
С этими словами Лукач вышел из дому и только тут вспомнил, что не поцеловал жену на прощание. А надо было, и сегодня — особенно: знал ведь, что поселилась в душе у жены тревога, тихая, небольшая, но все же… Да хоть бы и была она в безмятежном спокойствии, все одно — прощаться надо душевно, не зря ведь говорят, что всякий уход — вроде маленькой смерти.
Однако же возвращаться он не стал. Подошел к соседнему дому и стукнул в окошко:
— Спишь, Анна?
Анна тут же и появилась в окошке. Смуглое лицо овеяно утренней свежестью, в синих глазах застыла солнечная тоска. Красивая, длинная шея и узел черных волос.
— Уже идешь? — спросила она.
— Иду, — отозвался Лукач.
— И я потом приду.
— Когда?
— К полудню.
— Ладно.
«Какое там ладно, — подумал Лукач, — раньше бы надо, куда как раньше». Подумал, да не сказал: женщины ведь с ходу все понимают и, бывает, пугаются или загодя заковывают сердце в броню. Губы его тронула улыбка, и он пошел дальше.
Солнце еще не встало, но утренний свет уже заливал поля. Дивный покой царил кругом и полное безлюдье. Только две шальные сороки трещали над самой дорогой, плавали и ныряли в воздушном море, да томилась в тени огромной тыквы бродячая кошка, упрямо надеясь, что какая-нибудь из сорок вдруг забудется да и сядет на тыкву. Кукурузные листья светились зеленым светом, пшеничная стерня потемнела, в овсяных колосьях прятался и шуршал ветер.
Парило.
Мир поднимался, набухал, словно тесто в кадушке, и ворочалась где-то на донышке тревога.
Лукач шел полем, сперва по дороге, потом по тропке, что вела на Гужор, а тревога тем временем поднималась, набухала в его душе. Где-то там, на донышке души, кувыркались, играя друг с дружкой, два пушистых резвых зверька — прошлое и настоящее; нет-нет да и разойдутся не на шутку, и не уследишь, когда куснут один другого. Мысли гнались за чувствами, словно собака за кошкой. Когда кошкою была Борица, она так к собаке и ластилась, совсем ее не боялась, могла хоть на спину вспрыгнуть; Анна же — та сразу вся ощетинится, а синие глазища огнем полыхают, словно в жизни не случалось мурлыкать.
Эх, подумалось Лукачу, до чего же сложная штука — жизнь! И чем дальше — тем сложнее; не водить бы лучше безумного хоровода с Анной да с Борицей, не биться с настоящим и тем паче — с прошлым, а вместо того взять да и оглядеться как следует в этом светлом утреннем мире.
Самое время было оглядеться. Поля остались за спиною, впереди лежали луга с редкими крапинами кустов. Первое, что бросилось ему в глаза, был старый крест на границе поля и луга, почти рядом с тропкой. Ветхий крест, подгнивший, без верхушки — то ли ветер слизнул, то ли время. Темная, замшелая перекладина дрожала в переливах света, а на левом ее крыле вроде бы сидела птичка. И точно: чем ближе он подходил, тем яснее видел на перекладине птицу. Была она с ласточку величиной, маленькие глазки-рубины смотрели на Лукача в упор; умела бы говорить, так непременно сказала бы: «Да это же Лукач Салка! Быть того не может!» Красивая была птичка, вся словно точеная, грудка — голубенькая, спинка — зеленая и красно-бурая головка.