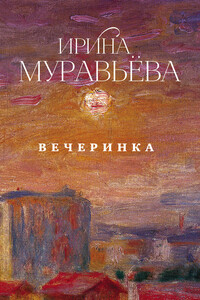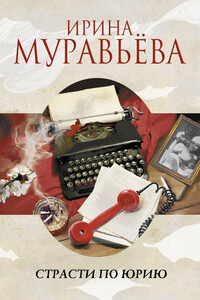День ангела | страница 78
Она ждет ребенка. Желать ее тело сейчас, когда внутри его, как деревце, разрастается чужой младенец, нелепо и странно. Во всяком случае, если бы она вчера вечером сказала ему, что беременна, между ними ничего бы не случилось. Ушаков отчетливо увидел перед глазами ее молочно-белый живот и почувствовал тепло его очень гладкой кожи, на которую он совсем недавно, на рассвете, положил голову, удивившись нежному, едва ощутимому запаху реки, которым пахла эта кожа. И руки ее, сомкнутые у него на шее так, что их внутренние сгибы приходились на его щеки, и он запомнил горячую, слегка влажную, словно бы детскую, кожицу этих сгибов, – и руки так пахли: рекой, летним лесом. Ему было радостно думать о ее теле, и чем больше он запрещал себе эти мысли, тем настойчивее они становились. Младенец, растущий внутри ее тела, мешал его счастью, но одновременно вызывал ту жалость, которую вызывает все беззащитное в природе, все еле заметное, начиная от невзрачного, крохотного цветка в глубине травы и кончая муравьем с бугорком на спине, придавленным крепкой сосновой иголкой.
Что делать? Уехать обратно домой?
На небо тем временем хлынул закат, и оказалось, что Ушаков, погруженный в свои переживания, незаметно успел выйти за территорию школы и направлялся теперь к подножию ближней горы, над которой так низко стояло солнце, что ее пологие склоны казались розовыми, как на китайских акварелях.
– Димитрий! – раздалось за спиной, и тут не по голосу даже, а по тому, как она исказила его имя, Ушаков узнал Надежду.
Она догоняла его, бежала к нему по траве, по легкой, почти незаметной, похожей на слабый пробор в волосах, светло-желтой тропинке.
– Я вашу машину углядела! – задохнувшись, сказала она. – Ну, все, думаю, этот попался!
– У вас здесь чудесно, – пробормотал он.
– У нас здесь – Россия, – с важностью сказала Надежда, забыв, очевидно, что уже вчера высказала нечто подобное. – Мы нашим студентам взрастили оазис. Они же ведь варвары, вы их не знаете!
Ушаков чуть было не спросил, не на американские ли деньги взрастили оазис, но удержался. Люди, которые, подобно Надежде, мыслят обобщенными величинами, отпугивали его. В душе его было что-то вроде особого компаса или, лучше сказать, особого увеличительного стекла, сквозь которое он смотрел на вещи, пробиваясь через общее к единичному и частному. Каждый раз его выводило из себя, когда кто-то говорил, например, что немцы, или евреи, или французы вели себя так-то и так-то, а кто-то еще (то есть те же, скажем, немцы, евреи или французы) испытывал в известный момент то-то и то-то, а убито было столько-то или столько-то, притом что все убитые были такими-то или такими-то. Каждый раз он ощущал, как кожу его стягивает к закипающему затылку, и каждый раз ему хотелось одернуть говорящего, спросить, как бы он отнесся к тому, если бы и его самого вдруг причислили к безликой исторической массе.