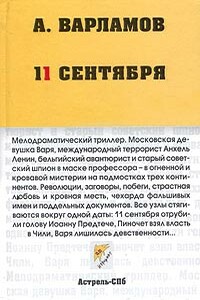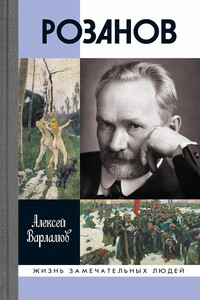Пришвин, или Гений жизни | страница 19
Среди этих противоречивых высказываний располагается и такое:
«Когда-то я принадлежал к той интеллигенции, которая летает под звездами с завязанными глазами, и я летал вместе со всеми, пользуясь чужими теориями как крыльями (…) Семя марксизма находило теплую влагу в русском студенчестве и прорастало: во главе нашего кружка был эпилептический баран, который нам, мальчишкам, проповедовал не-ученье — „Выучитесь инженерами, — говорил он, — и сядете на шею пролетариата“».
Пикантность этой ситуации заключалась в том, что марксистское действие происходило на Кавказе, родине товарища Сталина, в городе Гори, куда студенты выехали, говоря современным языком, на практику (их не то послали, не то они сами добровольно поехали туда для борьбы с вредителем виноградников — филлоксерой, занесенной в Россию из Европы, — неслучайная, символическая, согласитесь, подробность), и по утрам молодежь сидела с лупами и рассматривала корешки виноградной лозы, а в остальное время яростно спорила за столом с бурдюками вина.
«Помню большую веранду, где мы пили вино и вели свои споры, огромное дерево орех, под которым праздновали с грузинами и пили много вина. Помню каких-то грузинских детей, которые учили меня танцевать лезгинку. Странно теперь думать, что среди этих детей рос и мог учить меня лезгинке сам Сталин».
Теоретически у юноши был шанс сделать партийную карьеру, он завел знакомство с достаточно известными в революционном мире людьми и среди них с Василием Даниловичем Ульрихом, на дачу которого его привел другой марксист, по фамилии Горбачев, вытащивший юного Михаила из воды после неудачного купания в Рижском заливе. И все же что-то не сложилось, не получилось у него с революцией. Может быть, потому, что марксизм у него был никакой не научный, не правильный, а фантастический, религиозный, слишком искренний.
В жестокой «не то секте, не то семье, не то партии с бесконечной преданностью этому коллективу и готовностью для него во всякое время принести себя в жертву» Пришвин сравнивал себя с Петей Ростовым
(«Я был юношей, до последней крайности неспособным к политической работе… доверчив, влюбчив в человека…»)
и если не погиб в бою, то испил свою чашу страданий в камере одиночного заключения Митавской образцовой тюрьмы, куда попал в 1897 году, будучи пойманным при переноске нелегальной литературы.
Тюрьма есть тюрьма, хотя о пенитенциарных порядках бывшей империи теперь мы читаем едва ли не с умилением: никакого подавления личности, унижения, пыток, мучений, даже просьбу молодого нигилиста перевести его из полутемной камеры в ту, где было видно небо и закаты, выполнили! Разве что отказал начальник тюрьмы только передать ему книгу Шекспира «Кинг Джон» на английском языке, потому что «английского языка у них никто не понимает и книга может быть нелегальной».