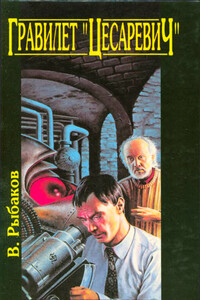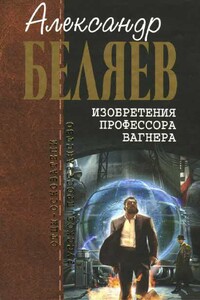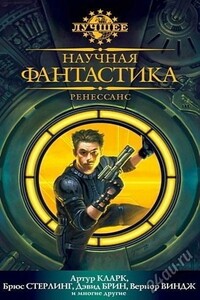На чужом пиру, с непреоборимой свободой | страница 31
— Да, ещё позавчера.
— Запускай.
Я успел занять уверенную позу и сделать умное лицо. Дверь неторопливо отворилась, и передо мною предстала тень минувшего. Гаже всякого динозавра.
Я даже глаза прикрыл, чтобы совладать с собой, не видя его отвратительного лица.
Он меня, разумеется, не узнал. Сколько мне было, когда мы виделись в последний раз? Он бы на этот вопрос ответить не смог. Ни до кого ему не было дела, кроме своей драгоценной персоны.
Кто бы ведал, как я ненавидел его тогда! Кто бы ведал, сколько раз, заслышав из маминой комнаты сдавленные рыдания среди ночи, я его убивал — и в сладостных детских грезах наяву, и, тем более, когда ухитрялся уснуть наконец!
Подробностей я, разумеется, не мог в ту пору ни выяснить, ни понять, да они мне и теперь не известны, — но уже тогда, восьмилетний, я знал совершенно точно, что мой мир взорвался из-за него.
Он не выглядел постаревшим. Не выглядел и посолидневшим. Он лишь разбух, обесцветился и увял, будто его долго вымачивали. Одутловатое лицо без возраста, погасшие глаза… И веяло от него уже не апломбом и самолюбованием, а пустыней. Пока он неторопливо шел от двери к креслу посетителей, я вникал в него и так, и этак, и не чувствовал ничего. Только пепел.
И одежда под стать. Униформа доперестроечного интеллигента средней руки. Сразу возникло впечатление, что она куплена ещё при Совдепе, пиджачок за тридцать два рубля, рубашка за девять — а теперь все это так и донашивается вот уж кой годок, аккуратно стирается, штукуется, штопается… В ней и похоронят. Мне показалось, что именно в этом костюмчике он приходил к нам. Воротник у рубашки протерся до основы, но был чистым. Локти пиджака лоснились и светились там, где ткань совсем уже просеклась. Брюки пузырились на коленях, штанины понизу будто поросли мхом — так одряхлела и истерлась ткань.
Но не было в нем наивной сошниковской прибитости напуганного нежданной бомбежкой малыша. Только брезгливое равнодушие. И, садясь в кресло для посетителей, он изящно поддернул свои штаны, находящиеся на исходе периода полураспада.
— Здравствуйте, — произнес он сдержанно. Ни малейшего волнения, столь естественного для человека, в первый раз пришедшего к врачу. Ни малейшей, как бы это сказать, надежды, что ему помогут. — Мне порекомендовала обратиться к вам Алла Александровна Костенко. Она сказала, вы её наверняка вспомните.
Да, разумеется. Алла. Она была поколения мамы, но мы быстро отказались от отчеств, это как-то само собой произошло. Славная женщина, энергии невероятной и со способностями намного выше средних. За помощью она к нам не обращалась, мы познакомились действительно случайно — хотя, честное слово, я был бы рад ей помочь и без её обращения. Но тут имел место редкий случай, когда все мои экстравагантные методики никуда не годились. При Советах муж её был довольно крупным конструктором оборонки, потом быстро, по-молодежному перестроился и теперь опять процветал в совместной со шведами и немцами фирме, чего только не выпускавшей. Так что материально она не нуждалась. Числилась она всю жизнь в биологическом каком-то институте Академии наук, и, если бы там и впрямь оставалась хоть мизерная возможность работать, достигла бы, вероятно, немалого; вполне серьезную кандидатскую она защитила, если я правильно помню, чуть ли не в двадцать пять лет. Но академические институты, господа, это ж такие странные заведения, которые и разгонять нельзя, потому что неловко и цацкаться недосуг, а распускать, между прочим, это тоже цацкаться; но и роскошь реально их финансировать страна никак не может себе позволить, до них ли нынче… Кому он нужен, этот Васька?