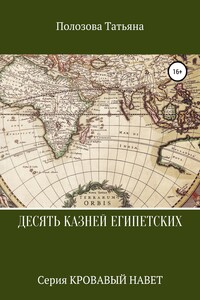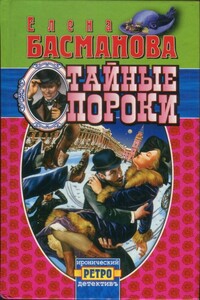Калуга первая (Книга-спектр) | страница 193
Он заставлял себя думать об этом и постепенно выкарабкивался из болота человеческого ужаса. Теперь его можно было сажать на цепь, он все равно бы не повесился, и смотрел бы на скудный мирок перед собой, пульсируя между циничностью и святостью. Он вспоминал, как когда-то понял, что слепое человечество от своей глупости, от всех этих исторических тупиков возвело в своих потомках сотни бессмысленных ужасов и бессильных страхов, и, опираясь на них, можно тысячелетиями гнать человеческое стадо во имя очередной элементарной шкуры. Природа сделала совершенство, наделив его даром создания новых совершенств, а человек забил свою голову глупостями, вроде той, что он рожден единожды или что он смертен. И оттого так много мертвечины, если яд трупных философий вошел в незаполненные мозги. Страх лучший погонщик, тем более, что от страха люди готовы даже умирать и идти на жертвы.
Нет, Бенедиктыч уже так не думал, ему вообще незачем было искать понятия для своих знаний. Он повторял всего лишь: "Кошмар! Ужас! Нелепость! Суета!" - и в этих словах была вся его слабость. Ведь для того, чтобы стать святым, требовалось воспроизвести в памяти лицо предыдущего. И это ему удавалось теперь без труда. А ненужные слова ватно ударялись о стену. Ему становилось все гаже от бессилия. Он мог забыть сына в одно мгновение, но что-то удерживало, и он не понимал, что именно.
Судороги проходили, а он не возвращался к себе по настоящему, он оставался в роли убивающегося отца, но сознание отвлекалось:
"Набравшись мерзостей, гадким и слабым возвращаешься к себе, берешься за творчество, чтобы очиститься и заново обрести себя. И уголь не имеет уже тех свойств, когда сделается алмазом. Такая вот болтовня!"
Слово "болтовня" попало в ту же кучку у стены за кроватью. Бенедиктыч оживал, это была обычная прострация. И вот он уже встал, смел на совок кучку пепла и высыпал его в открытое окно.
В тот же миг в мир вошло уныние, перед взором Бенедиктыча вместо образа Предыдущего взошло лицо Веефомита, и уже через полчаса он сидел перед ним, держа в руке дымящуюся трубку. Веефомит молчал, разделяя горе, а Бенедиктыч смотрел и говорил совсем не как убитый горем отец:
- Слова - сор. А ведь прислушиваешься к подобной банальщине. Мы произносим великие вещи, не вникая в их суть. А все почему: банальщина-то возникает от бездействия, истина становится банальной, потому что мало кто тратит на неё усилия. И всех ломает несоответствие между словом и делом. Действие, вот чего нам всем не достает. Давно бы одна половина человечества выродилась, а другая поднялась до небес, поступай каждый по своему убеждению. Бенедиктыч говорил иронично, но глаза его так и съедали Веефомита, только что вернувшегося от философа, которому пришлось доказывать, что многознание не научает быть умным и с которым вспоминали бедного Раджика, потому что в соседней комнате Зинаида громко и отчаянно называла Любомирчика "сирота ты мой, сиротинушка". "Что тут скажешь, вздыхал философ, - в нем всегда было что-то фатальное."