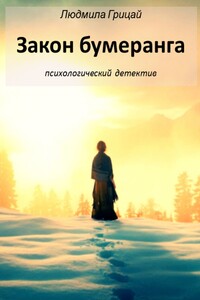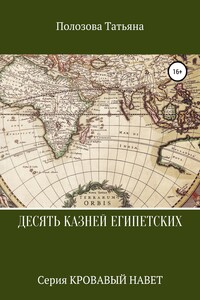Калуга первая (Книга-спектр) | страница 192
"Извини, дедушка, я приду, чтобы тебя утешить, гораздо позже. Потерпи еще, милый дедуся, твой Кузя."
Но что интересно: с той поры стало полегче Леониду Павловичу, отошло от сердца это неясное ожидание чего-то, и не казалось уже, что бродят по России в таком невероятном количестве эти потрепанные кустари с рукописями. Но ведь до чего бандит! И не откажешь в смелости и трезвой оценке - понял, что слаба вещица и забрал. Молодец, Кузя!
И хорошо бы работалось, если бы не эти срочные телеграммы, не хрупкость человеческих тел.
...И вот теперь Леонид Павлович шагал по ступенькам, приближаясь к дверям несчастья, вновь купаясь в море тоски, плывя на спине не зная куда, с мольбой взирая в зеркальное небо.
* * *
Это случилось поздней ночью, и об этом никто так и не узнал. Кузьма лежал и смотрел на мертвую стену перед собой. И нет слов, способных объяснить его состояние. Наверное, это прорвался сдерживаемый так долго и так жестко гигантский инстинкт привязанности к жизни. Кузьма Бенедиктович корчился и говорил еле слышно в мертвую стену. Слова ударялись о шершавую штукатурку и осыпались на пол в неподвижную пыльную кучку. Кузьма остался один. У него умер сын. А он лежал и вспоминал, как сотни раз готовился к подобным крушениям, как давно уже убедил себя, что должен пройти до конца, в кого бы ни попадала стрела случая. Но сегодня он не мог. Его тело, внешне безвольное, ломалось и корежилось изнутри. Он говорил: "Какой кошмар!" Но восклицание звучало фальшиво, и он как всегда осознавал, что и теперь его внешняя суть играет роль, как она играла её и тогда, возможно в ещё более ужасные часы, когда он постиг, что его творчество, весь его опыт и его выводы никому не нужны, кроме предыдущего и следующего его самого. Но тогда он нашел спасение, и знал, что и сегодня найдет. "Не в том суть, что Раджа нет. Это все инстинкт, обман, все по-другому." А слова ударялись о холодную стену и ссыпались вниз, как песок. Посадите в таком состоянии Бенедиктыча в тюрьму и он там повесится. Он разорвет рубаху на лоскутки, сложит их втрое, свяжет, приспособится к спинке кровати и победит свое усталое тело и измученные глаза.
Он давно уже жил наблюдателем, пульсируя между циничностью и святостью. Он наблюдал и себя наблюдающего, и уже мало что вызывало настоящую улыбку или действительное сочувствие. Это отношение было сильнее его самого, и сегодня он жалел, что все ещё здесь, а не там, за порогом мрака, из которого можно являться ещё тысячи раз, как это делают нормальные люди. А если он уйдет, то не вернется. И тогда все эти типы философа исчезнут, чтобы новое начало дало жизнь и стремление к совершенству новым формам, расколовшимся на иные типы.