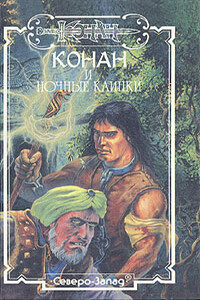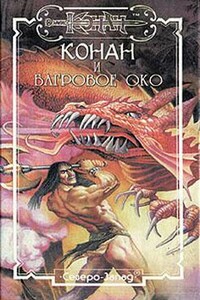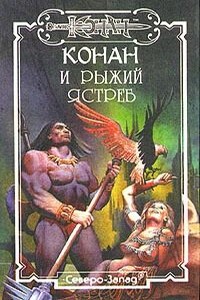Дважды рожденные | страница 40
Конан слышал, как к ней подходят мужчины и говорили, что тело мальчика нужно предать земле. Они говорили, что нельзя держать тела умерших не зарытыми слишком долго. Но Маев только молча смотрела на них, и они уходили.
«Но что ты будешь делать на Серых Равнинах, сын мой?» — снова спрашивала она его. — Кром почитает и сажает с собой за пиршественный стол лишь тех, кто погиб славной смертью в битве. У тебя не будет там друзей. Не будет зеленых лесов для охоты, синей воды, в которую можно нырять с разбега…
Не будет лугов и резвых коней, и верной собаки. Зачем ты ушел? Ты ведь еще так молод. Позорное клеймо вора ты мог бы смыть с себя воинской доблестью, кровью и жизнью врагов, своей собственной, пролитой в честных битвах кровью. Отчего ты так поспешил? Ведь там, на Серых Равнинах, где нет битв, где мечи со звоном не ударяются друг о друга — клеймо вора будет пребывать на тебе вечно».
Мать сидела над ним всю ночь и весь следующий день. Вечером снова пришли мужчины, снова требуя похоронить тело, уже резче и тверже. «Ты сошла с ума, Маев, ты стала безумна, — слышал Конан их грубые, режущие слух по сравнению с тихим голосом матери, речи. — Посмотри на себя, Маев. Посмотри в полированный медный щит или в воды озера: ты стала совсем седой, ты стала совсем безумной. Если тело не опустить в землю до тех пор, пока на ней не появятся первые признаки разложения, дух умершего разгневается. Он оскорбится, он сочтет это надругательством над своим телом и будет мстить. Он будет мстить всем нам, Маев».
Невзирая на молчаливый протест матери, они взяли тело мальчика, завернули в грубую ткань и понесли на кладбище, к уже готовой, разверстой в земле яме.
«Не отдавайте меня им, мама!» — беззвучно молил Конан, но Маев, даже если и слышала что-то в самой глубине души, уже ничего не могла поделать. Обычаи деревни были сильнее любых материнских чувств.
Голоса ее Конан больше не слышал. Как только холодную ладонь сына выдернули из ее руки, Маев замолчала и хранила молчание во все время недолгих похорон.
Другие голоса кружились над недвижимым, закутанным в холстину телом. Отрывистые, сокрушенные, хмуро-деловые…
Чаще и громче всех жужжал приторный голос вездесущего колдуна. Он причитал, вздыхал, укорял Черока за то, что тот не мог сдержать праведный гнев руки… Он укорял и ругал сам себя за то, что не был достаточно настойчив и не смог убедить мужчин не наказывать мальчика вообще… Конана мутило от бессильной ненависти. Кром! Если б у него хватило сил, хотя бы на одно движение — этим движением был бы плевок в наигранно сокрушающееся лицо…