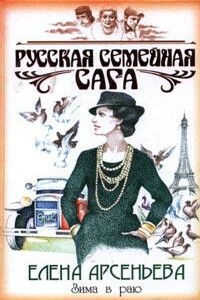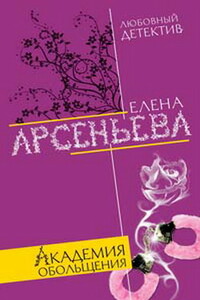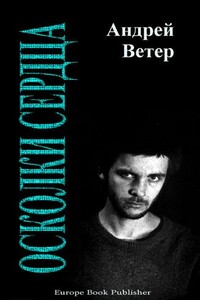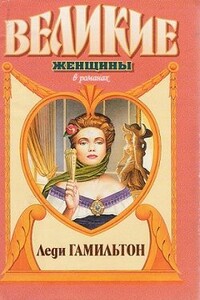Царственная блудница | страница 111
В Лондоне на Стрэнде Афоня видела китайцев в их лавках. Они привозили шелка и чай. Может, эта женщина – китаянка? А впрочем, в России живут башкиры, узбеки и калмыки. Наверное, она одна из них.
Но это сейчас не самое главное. Как Афоня сюда попала, в эту комнату? Вспомнилась оскаленная от быстрого бега морда лошади, вспомнился удар... затем, как если бы кто-то повернул события вспять, явилось на память бегство из посольского сада, ужасный Брекфест, несущийся за нею по пятам, хохочущий Гарольд... и причина, по которой она выскочила в сад: отказ возлюбленного жениться на ней, потому что он не в силах быть разлучен с императрицей, отвратительное предложение Колумбуса стать женой-ширмой...
Казалось, это было так давно! Сколько времени она здесь провалялась? Выбежала из дому, когда едва брезжило, а сейчас за окном собираются сумерки, скуластое, желтоватое лицо женщины все труднее различить.
Она что, с утра здесь лежит? И – самое страшное! – один ли день? Или уже несколько суток прошло? Что же там с любимым, обожаемым Никитой Афанасьевичем? Может быть, он уже успел принять участие в интриге Колумбуса – и вновь вернул себе расположение императрицы?
Афоня с болезненным, хриплым криком рванулась с постели. Сиделка так и подскочила в своем кресле, раскрыла узкие, испуганные глаза, взглянула на Афоню, суматошно всплеснула руками, неуклюже выпросталась из кресла, едва не свалившись и не свалив его, – и засеменила к двери, не обращая внимания на испуганный зов Афони:
– Погодите! Скажите, где я?!
Дверь закрылась. Афоня откинула одеяло – шелковое, пуховое, цены баснословной – и обнаружила, что лежит под ним не в своем прежнем костюме, а в женской сорочке, добела вымытой, очень мягкой – и очень широкой и короткой. Она вспомнила, что убежавшая сиделка была плотненькая и маленькая, – не ее ли это бельишко? Не она ли ухаживала за Афонею, раздевала ее и прибирала? Но, видать, не она хозяйка сих богатых покоев, если так суетливо кинулась куда-то, словно бы звать кого-то, кто облечен большей, чем она, властью?
И не успела Афоня так подумать, как отворилась дверь и вошел высокий, но несколько сгорбленный человек.
Девушка поспешно юркнула под одеяло.
Человеку было за пятьдесят, лицо изборождено морщинами, но создавалось впечатление, что прорезали их не столько возраст, сколько страдания. Лицо вдобавок сильно побито оспою, а все же в чертах сквозили еще отвага и красота, которые давно должны были кануть в Лету, а все же каким-то чудом – может статься, только силою натуры этого человека – задержались на берегу. Был человек одет в черное – старый, поношенный мундир, какие иногда носят отставные солдаты, сверху меховая душегрейка наброшена. Несколько согбенный, он опирался на палочку, и все же ничто не могло скрыть былой мощи, былой стати. Афоня вспомнила Колумбуса. Они с неизвестным являлись, пожалуй, ровесниками, но если Колумбуса время как бы расплющило и размазало, то в этом человеке оставило внутреннюю суть его.