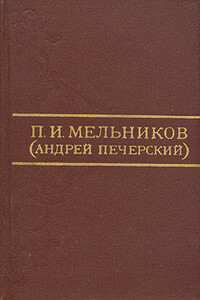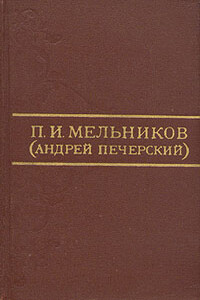Очерк жизни и творчества | страница 14
Как ни примитивна была эта демагогия, но в условиях спада освободительного движения она оказывала влияние даже на людей прогрессивного образа мыслей. Этим людям казалось, что честная, бескорыстная деятельность не может не получить поддержки правительства и, стало быть, тем вернее даст реальные плоды.
Мельников принадлежал именно к такого рода людям. В студенческие годы ему были свойственны некоторые черты вольнодумства, но оно, конечно, не поднималось до революционного протеста. Человек, выросший и воспитавшийся в провинции, вдали от центров освободительного движения, он не был знаком с самым существом революционных идей своего времени, слабо разбирался в обстоятельствах общественной борьбы тех лет. Потому-то, в частности, он и считал вполне возможным, сотрудничая в журнале Белинского, печататься и в «Москвитянине» — реакционном журнале М. П. Погодина. По коренным своим убеждениям он был просветитель. И высокий гуманизм Пушкина, и грозный смех Гоголя, и горькое отрицание Лермонтова он воспринимал как просветитель. Даже в проповеди Белинского он не сумел усмотреть революционного начала. Главными пороками всей общественной жизни России он считал своекорыстие большей части дворянства, невежество и лихоимство чиновничества, равнодушие и произвол вельмож. И все это, по его убеждению, могло процветать прежде всего потому, что русский народ был забит и темен.
Эти взгляды предопределили и его отношение к «расколу», который, как он совершенно искренне думал, был плодом крайнего невежества и самой несусветной дикости. Догматика и традиции «раскола» отгородили большие массы народа не только от элементарных завоеваний цивилизации (старообрядцы избегали обращаться к помощи врачей, даже в первой половине XIX века они считали картошку чертовым яблоком, им запрещено было пить чай и т. п.), но и от всего, в чем выражалась поэзия народной жизни: «мирские» песни, хороводы и пляски почитались в старообрядческой среде за великий грех. Старообрядчество как общественное явление — это воплощенный застой — таков был для Мельникова главный итог его исследований и разысканий.
Конечно, — нет худа без добра! — благодаря стараниям старообрядцев сохранились для истории многие древние рукописи, книги, замечательные по своей художественности иконы, утварь и т. п. Мельников это превосходно понимал, но его чисто просветительская ненависть к темной, суровой догматике «раскола» была так сильна, что только из-за присутствия ее элементов он, прирожденный художник, не сумел оценить такого исключительного по своей художественной силе памятника старообрядческой старины, как «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».