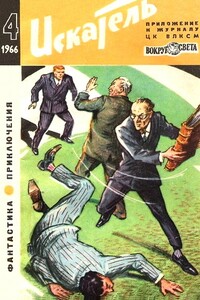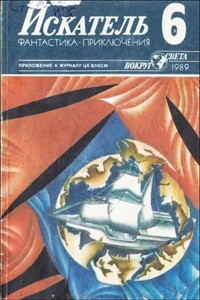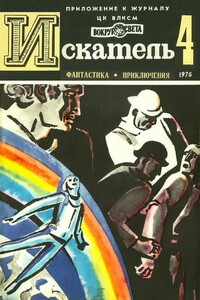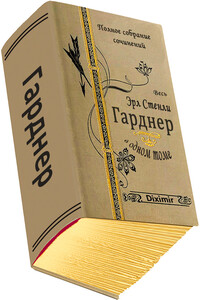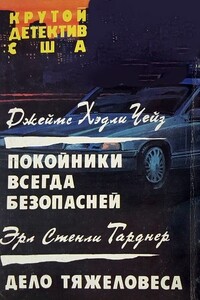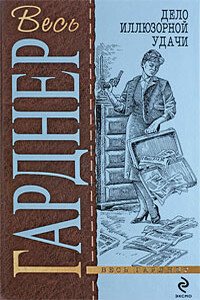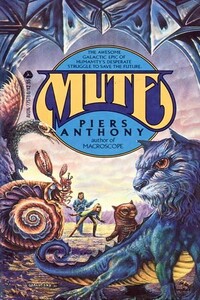Искатель, 1985 № 01 | страница 41
…Рано утром до меня донесся далекий гудок паровоза, я жадно вслушивался. Показалось, что слышен стук колес.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Все было тайной: она сама со своим особым характером, ее прошлое, ее капитанские погоны, ее слова — простые, обычные для всех и какие-то загадочно-двойственные, с тайным смыслом, — для меня одного Не оттого ли я вспоминал их так часто?.. Когда мы оставались вдвоем, она говорила со мной грубовато-снисходительно, и ничто не могло побудить ее изменить тон.
Она проходила мимо, иногда даже не взглянув на меня. А вечером, когда я упрекал ее в этом, она с удивлением смотрела на меня и говорила:
— А ты что хотел? — И предлагала мне папиросу.
Что это было? Не знаю Со всей силой эгоизма наталкивался я на ее таинственно-безучастное отношение и как будто со стороны наблюдал за происходившими во мне изменениями. Может быть, так и надо?.. И я утвердительно отвечал на этот вопрос, и тем охотнее, чем скорее мне предстояло с ней встретиться. Впервые вел я странную, двойную жизнь, пряча от себя самого скрытый смысл происходившего Я мог остановиться посреди палаты и вспомнить — и покраснеть: даже воспоминания были постыдно яркими, неожиданными И я всегда ждал встречи с ней, заискивающе ловил ее взгляд в коридоре, на крыльце, ненавидел себя, но считал часы и минуты, отведенные ею для меня.
Эта загадочная, полная еще тайн жизнь переделала меня, сделала острее, чувствительнее, я ловил на себе взгляды, которые раньше остались бы незамеченными — и необъясненными. Настороженно поглядывал на меня Сосновский, с испугом — Вася Кущин…
Я улавливал значение не только ее слов, но и интонаций, я начал понимать оттенки их, но у нее всегда находилось такое- и слова и поступки, — что я не уставал удивляться тому простому факту, что айсберг всегда скрыт на девять десятых под водой. Айсберг — эго жизнь. И я начал думать о смысле жизни все чаще, все решительнее — ив этом тоже повинна была она. Легонько прислонив меня к стене, она спрашивала: «О чем ты думаешь?» И я отвечал ей: «О тебе». Такова была моя защитная реакция, наверное. Но она понимала мой ответ по-своему — как именно, оставалось загадкой.
И вот настал день, когда я осудил себя бесповоротно. Уж не потому ли меня держат в госпитале, что я нужен ей?
Воспоминания о вечерних встречах, казалось, прожигали меня насквозь. Днем я ненавидел ее и себя, вечером с упоением слушал ее низкий голос.
Она почти не говорила о себе, и я был этому рад. Все же, мягко улыбаясь, она рассказала о Ростове, где родилась, о муже, с которым развелась очень быстро: «необщительный», «ревновал»; рассказала о каком-то друге, который был на фронте и писал ей. Обо мне она сначала подумала, что хорошо бы иметь такого сына, но теперь думает, что я совсем взрослый, а сын ее мог бы быть намного моложе. Здесь она сбилась и замолчала, потрогала свои сережки с фиолетовыми камнями, подошла к зеркалу, бросила быстрый пристрастный взгляд на себя, и мне стало неловко из-за этих серег, из-за ее юбки в клетку, которую я видел на ней впервые, кашемирового платка, который она достала из комодика и стала примерять и спрашивать меня, хорошо ли. Странная, исключительная минута, точно она перестала быть сама собой: большим, высоким и далеким от меня человеком, расположенным ко мне дружески и так же дружески-снисходительно, прижав меня иной раз к стенке, выяснявшим, мигу ли я устоять под нарочито грубоватым натиском, и если да, то где эта граница, когда теряешь себя и подчиняешься другому. Не было в этом ни зла, ни добра, ни участия, скорее всего лишь эгоистическое желание увидеть в другом отражение своей власти. И тогда я опрашивал себя: «Неужели ей так надо — ставить меня на край пропасти и наблюдать за мной?» Только позже я понял, что иначе и нельзя. Все было предопределено. Это ведь не было любовью. Она убийственно спокойно сказала однажды: