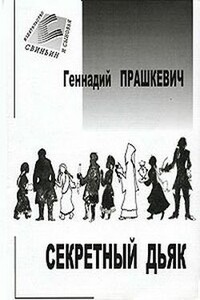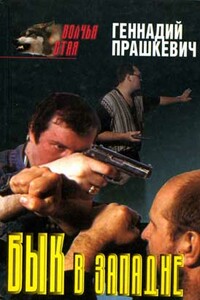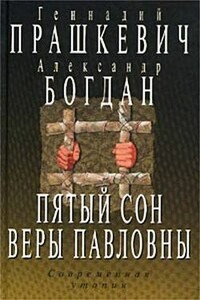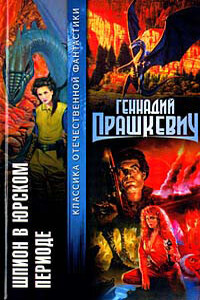Большие снега | страница 54
Оставалось немногое: оправдать творчеством эти заявки.
Мир, который с 60-х годов прошлого века вошёл в поэзию Геннадия Прашкевича, – многолик и прекрасен. Разумеется, в его стихах, как в стихах его коллег по литературному кругу Академгородка, это, прежде всего, зимняя Сибирь: «Ах, как дует из ущелий, ах, как дует и метёт, голубые лапы елей превращая в хвойный лёд…» И далее: «…облака как балерины, как танцовщицы Дега». Изящный и точный образ. Рядом с ним уже не удивляет появление кавалера Глюка и Гагенбека, завоевателя Кира, нити Ариадны и египетских пирамид. Точный глаз поэта – не в описании картин и явлений природы, а в создании «живой картины», не важно – современной или исторической, реальной или вычитанной из книг. «Египетский суфлёр не подсказал ни строчки…» – начинает поэт обстоятельный рассказ, и переводит его в стремительный показ развёртывающейся перед нашими глазами картины: «…и толпы враз орут, увидев, меж цветами танцовщицы идут, играя животами».
Снежная сибирская зима у Геннадия Прашкевича описана не раз, – и эти описания призваны сообщить нам нечто важное о мире и о себе: «Мерзлая ветвь не хрустнет, нежная тишина. Замерла в снежной грусти найденная страна. Замерли даже тени, резкие, как ножи. Зимнее вдохновение, белые миражи». Нечто очень важное передано здесь музыкой слова, гибкой строкой, этим неожиданным эпитетом: найденная страна. И сочетанием-противопоставлением певучих строк с длинными словами и двумя ударениями в строке – нежная тишина… найденная страна… зимнее вдохновение… белые миражи…