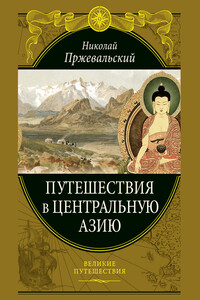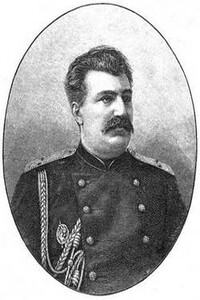Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность | страница 54
Кроме сибирской язвы и куриной холеры, Пастер одолел краснуху, или рожу свиней. Эта крайне опасная болезнь особенно дала себя знать в Венгрии. Венгрия поставляла свинину на всю Европу, но из-за краснухи ее свиноводство совсем было запропало. Пастер в сотрудничестве с Тюлье изучил микроб краснухи и выработал способ предохранительной прививки. Способ еще требует усовершенствований, но и в теперешнем виде систематическое применение его понизило смертность от краснухи во Франции и Венгрии до полутора-двух процентов вместо прежних двадцати.
ГЛАВА IX. ПАСТЕР КАК УЧЕНЫЙ
“В большинстве случаев одного простого опыта достаточно, чтобы установить принцип”,– говорил Пастер.
Но в этом опыте все условия должны быть известны и подчинены экспериментатору. Он должен знать, видеть и другим показать, что полученный результат есть действительно результат этих условий, и никаких других тут не примешивалось.
Раз это достигнуто, вывод является незыблемым, и как бы ни противоречили ему явления природы, факты действительности,– это противоречие должно быть кажущимся и объясняться вмешательством каких-нибудь новых условий, которых мы не разглядели: вещь весьма обыкновенная при сложности явлений природы.
Этому принципу Пастер неизменно следовал в своих работах. Прежде всего он “устанавливал” основное положение идеи на безупречный фундамент эксперимента. Так было и с сибирской язвой. Он не удовольствовался тем, что кровь, содержащая бактерии, заражает здоровое животное: мало ли что может попасть вместе с кровью. Он изолировал микроба, освободил его от всяких сторонних элементов, которые могли оказаться в крови,– и убедился, что этот изолированный, “чистый” микроб вызывает сибирскую язву.
Значит, это – факт несомненный, и никакие “очевидные” факты не могут опровергнуть его, потому что никакой факт не может быть очевиднее того, где все условия известны наперечет.
Этим и объясняется кажущаяся самоуверенность Пастера, не отступавшая ни перед “очевидностью”, ни перед установившимися мнениями, ни перед смелостью и фантастичностью выводов.
Эта самоуверенность слагалась из двух элементов: скептицизма, который не принимал основного положения без строжайшей опытной поверки, и логики, которая не отступала перед выводами из основного положения, хотя бы они казались химерой.
Если принцип неверен – тогда и разговаривать не о чем; но если он верен, значит, верны и выводы,– и никаких тут не может быть сомнений вроде “это было бы слишком хорошо” и тому подобных “ни два ни полтора”.