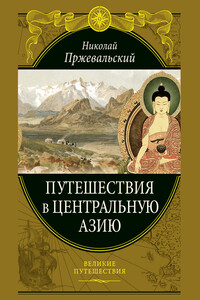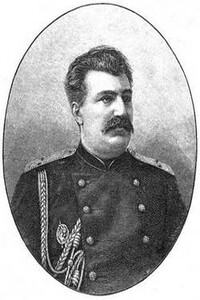Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность | страница 55
Эта неуклонная последовательность мысли придает особенный характер работам Пастера. В них поражает уверенный “ход” от начала до конца. Они ведутся как бы по готовой программе. Пастер видит результаты, которые должны получиться, и до того убежден в их неизбежности, что, встречая факт, по-видимому разбивающий его выводы, не отступает, не колеблется, не признает себя побежденным, а продолжает работу.
Мы бы сказали: Пастер руководился в своих работах предвзятыми идеями, если бы под этим термином не понимались идеи, взятые, что называется, с ветру, с чужих слов, на веру вследствие лености мысли и подчинения установившимся воззрениям, дедовским обычаям, предписаниям старших и т. п. Пастеру приходилось иметь дело с такого рода идеями, и немало крови они ему испортили! В баталиях, которые он должен был вести всю жизнь из-за научных истин, предвзятые идеи играли главную роль; из десяти возражений, которые ему делались, быть может одно было результатом критики, а девять – продуктом слепой привязанности к старому или недоверия к новому.
Идея Пастера была догадкой мыслителя, которую экспериментатор подвергал беспощадной критике, прежде чем признать доказанной. Но, раз признав, развивал ее со всеми последствиями и шел в своих работах уверенно от вывода к выводу.
Угадать истину – сравнительно легкая часть задачи: по крайней мере, мы видим, что на это способны многие. Сколько ученых до Дарвина или одновременно с Дарвином принимали гипотезу эволюционизма!
Даже обосновать истину простым и ясным опытом– не самая трудная часть работы; например, все опыты Пастера, связанные с самозарождением, были вариантами одного и того же основного опыта (жидкость кипятят, чтобы убить зародыши, и закупоривают, чтобы не допустить их из воздуха), на который раньше него опирались Гельмгольц в 40-х годах, Шванн в 1835-м, Спалланцани в 1777-м, Жобло – в 1717-м.
Труднейшая часть задачи – связать принцип с явлениями действительности, реального мира, объяснить эти явления согласно принципу, показать, что тысячи противоречий, возникающих при первой попытке приложить принцип к действительности, подтверждают, а не опровергают его.
Для этого нужно больше проницательности, чем для нахождения основного принципа. Формулируя принцип, мыслитель выбирает факты, говорящие в его пользу; а в борьбе с противоречиями он связан, лишен свободного выбора, должен подчиняться факту и найти ему объяснение.
Принцип угадан, но природа опровергает его на каждом шагу тысячами фактов, по-видимому неотразимых. Она приводит в отчаяние самую сильную логику своей кажущейся нелогичностью. Это – хаос, сплошное противоречие. Основной опыт сделан; кажется, вопрос решен – можно почить на лаврах. Нет! Со всех сторон заявляют о себе новые факты, появляются новые наблюдения и “подрезают” основной принцип. Проблема разбивается на тысячи мелких загадок, которые быстро истощают энергию исследователя.