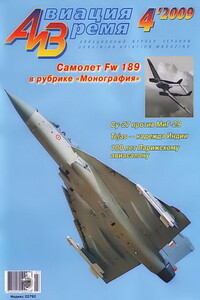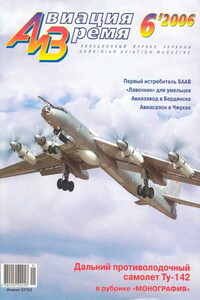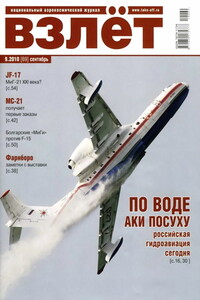Авиация и время 2000 04 | страница 21
Когда подняли обломки самолета, то обнаружили триммер руля высоты, установленный в положение 4° на кабрирование, хотя согласно инструкции, его перед взлетом следовало устанавливать только на 2°. Однако летчики полка опытным путем пришли к заключению, что на этом экземпляре Бе-10 триммер следует устанавливать именно на 4°. Когда Мироненко выяснял у Эляна, в каком положении триммера он производил облет, тот признался, что устанавливал 4°. Затем капитан под нажимом экспансивного командующего, который отличался еще и звучным голосом, заявил, что устанавливал на положенные 2°. На основании столь «объективного» расследования был сделан вывод, что Кузьменко нарушил инструкцию, и это стало причиной летного происшествия. Не исключено, что трагедия могла произойти из-за отката сиденья летчика в заднее положение. Как мы помним, такая же версия высказывалась в 1961 г. при расследовании таганрогской катастрофы. Кроме того, однажды по такой же причине сам Мироненко вынужден был прекратить взлет на Бе-10.
После этого события недоверие к самолету существенно возросло, и, судя по всему, полеты на Бе-10 в авиации ЧФ больше не производились.
Бе-10 – на бочке перед запуском двигателей
Бе- 10 Wat water stand before engines start
Машина так и не была принята на вооружение. Это, безусловно, неприятное событие для разработчиков и главного конструктора. Но трудно винить в этом только одно КБ. По большому счету это отставание теоретиков гидроавиации, отсталость технологии, несовершенство двигателей и многое другое. Наконец, вина падает и на заказчиков, которые составляли ТТТ без всякой перспективы, ориентируясь на устаревшую тактику действий, устаревшие средства поражения и др. К 1960 г. это стало совершенно очевидным, и члены государственной комиссии попытались уточнить условия применения самолетов: наносить удары по одиночным судам или по группам кораблей со слабой ПВО, применять для развития успеха предшествующего ракетно-ядерного удара, наносить ядерные удары из боевых порядков самолетов другого типа и т. п. Подобные предложения не учитывали изменений в тактике применения авиации.
Аргументами в пользу гидросамолетов назывались: возможность рассредоточенного базирования, неуязвимость гидроаэродромов, способность посадки в открытом море (океане) и дозаправки от подводной лодки*, а также возможность длительного нахождения экипажа летающей лодки на плаву. Однако в связи с изменившимися взглядами эти доводы не могли иметь решающего значения. При решении боевых задач авиация должна использоваться массированно,а не одиночными самолетами, тогда как рассредоточенное базирование вело к потере управления и полностью исключало групповое применение. Гидроаэродромы неуязвимы лишь относительно, т. к. их нормальное функционирование зависит от состояния самолетных стоянок, спусков и других объектов, а признать их неуязвимыми никак нельзя. Посадки гидросамолетов в открытом море для дозаправки от подводной лодки или танкера, даже не принимая во внимание полнейшую тактическую нецелесообразность, представляются проблематичными. По многолетним наблюдениям средняя повторяемость в течение года волн высотой до 1,25 м составляет: в Черном море – 76%; Японском – 70%; Баренцевом – 63%. Следовательно, даже для посадки в прибрежных акваториях самолет должен иметь мореходность, обеспечивающую взлет и посадку при высоте волн не менее 2-3 м. Но такое состояние моря практически исключает возможность операций, связанных с дозаправкой. Длительное нахождение самолета на плаву, как показали исследования медиков, ведет к повышенной утомляемости экипажа, создающей угрозу безопасности полета, и может иметь целесообразность только в экстремальной ситуации.