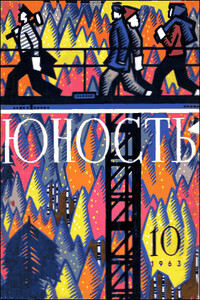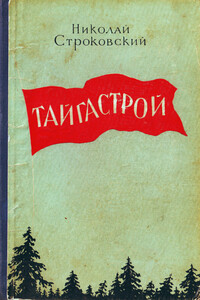Второе апреля | страница 25
Тут я вспомнил моего давнего приятеля Леву. Бодрый юноша с печальными глазами, Лева был фоторепортером нашей газеты «Социалистический Донбасс». И, мотаясь по заданиям редакции, он всегда таскал в кармане полосатый галстук с навечно завязанным толстым узлом.
Лева надевал этот галстук «для стирания граней» на тех, кого фотографировал. И рабочие, не имевшие привычки носить галстуки, покорно подставляли шею. Думали: так надо. Если посмотреть комплект газеты за пять лет — с сорок пятого па пятидесятый, то там почти все знатные труженики полей и штреков, мартенов и моря запечатлены в Левином полосатом галстуке.
— Так надо, — печально говорил Лева. — Это зримая черта.
... И, отправляясь в дорогу, я все боюсь, что он и у меня в кармане, этот Левин галстук. Полосатый галстук с навечно завязанным узлам.
И еще одно. Мой друг-летчик сообщил мне такую историю.
Недавно в Ленинграде был устроен для командиров авиации семинар по медицине. Целый цикл лекций — одна в терапевтической клинике, другая — в хирургической, третья — в психиатрической. Профессор-психиатр демонстрировал своих больных. И тут вышел один, серенький. А профессор объяснил:
— Мания величия. Задавайте ему вопросы.
Летчики спросили, как его фамилия. Ожидали услышать: «Наполеон», «Пушкин», «Гагарин». А он ответил: «Я — товарищ Панькин». Спросили о роде занятий. Ответил: «Заведующий Гатчинским трестом столовых». Спросили о семейных делах, о погоде, о тресте. Он отвечал что-то до скукоты обыкновенное. И летчики, уставшие изобретать вопросы, отпустили его, так ничего и не поняв.
— Что же у него такое? — спросили они профессора.
— Мания величия. Типичнейшая. Он на самом деле буфетчик, а возомнил себя заведующим.
— Значит, это у него предел мечтаний! — ужаснулся кто-то из летчиков. И другие летчики от души пожалели беднягу, у которого такая мечта.
ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Были когда-то такие стишки:
Может быть, я их несколько перевираю — неважно. Но клянусь честью, я действительно не могу понять, что во мне интересного и что я должен рассказывать. А вещей, которые мне самому непонятны, я взял за правило не делать. Вот так. Если вам угодно — задавайте вопросы.
И Смирнов даже поклонился со старомодной грацией, так не вязавшейся с его синей спецовкой, испачканной смазочными маслами всех марок.
— Извольте, — повторил он тоном графа из пролеткультовской пьесы. — Я вас слушаю.
Но все это было стариковское кокетство. Ему страшно Хотелось говорить. Когда потом я пытался вставить хоть словечко, он умоляюще хватал меня за руку и кричал: