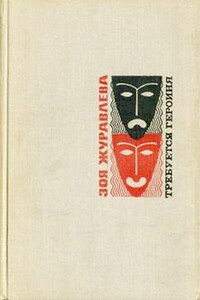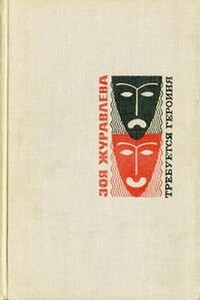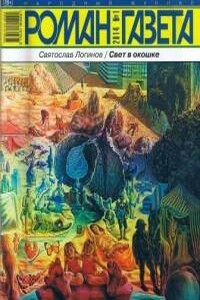Роман с героем конгруэнтно роман с собой | страница 61
Мы сидели с Его выпускницей. Ясные глаза, чистое лицо, понятная судьба, пятый курс, только что вернулась с Кольского, геолог, привезла мне приветы. О Нем, что ли, мы собирались? У нас было о чем говорить и без Него. Но говорили все равно только о Нем. И это было хоть уже и привычно, но странно. Почему обязательно возникал Он, когда бы ни кончилась школа, сколько бы лет ни прошло после выпускного вечера? Почему так навязчиво и конфликтно помнился Он всем, с кем сводила Его учительская судьба? И почему в разговорах этих никогда не было покоя и даже как бы некоей, что ли, решенности прожитого уже куска жизни, а всегда ощущалось царапающее беспокойство и неудовлетворенность? То ли Он был кругом в чем-то виноват, то ли все они, очень разного уже возраста, навсегда ощущали свою перед Ним виноватость, хоть не могли или не умели назвать — за что, в чем. Зачастую они уже плохо помнили то, что я считала незабываемым, — Его уроки.
Нет, уроков, как таковых, они уж не помнили, и не математика (Он бы умер, если б узнал) волновала их через годы, а нечто, делающее Его отличимо единственным в их судьбе, — бескомпромиссность Его, порою — до тупости, столь странная в наш век, угловатость среди сглаженных отношений, неуемность его критериев и настырная безотвязность Его оценок, которую Он не хотел или не умел скрывать на протяжении каждого прожитого ими совместно дня. От этого возникала изнуряющая непростота отношений, особенно между Ним и Его же классом, где Он был классный руководитель, между Ним и самыми старшими, к десятому, и невозможность порой отделить мелочи от крупного. И от этого же оставалась внутри дрожащая нота неудовлетворенности, как бы — недоговоренности, и этот нескончаемый спор с Ним, будто Он все время стоит за спиной и до сих пор рассматривает и прикидывает каждый их шаг. Утомительный этот взгляд, оценивающий по стобалльной шкале и непрощающий, заставлял их снова и снова возвращаться к Нему, снова и снова прокручивая внутри все когда-то бывшие случаи, происшествия, разговоры, и словно искать опору внутри себя — против Него, себя-теперешнего против Него, тогдашнего и вечного, несгибаемого, хотя непрерывно говорилось, что Он хотел только добра и как многим, если не всем, ему обязаны…
«Понимаете, он же нас с пятого класса вел и держал очень близко, а мы потом — так уже не могли, мы рвались. Почему все должны любить обязательно оперу? А если я хочу — джаз? А если поп-музыку? Почему мы все должны потом писать сочинения — „Пятый постулат Эвклида и ария Мельника из оперы „Русалка“?“ А если мне уже все равно, пересекутся параллельные прямые или сроду не пересекутся? Может, я о другом подумать хочу? Не о математике! А Люська Сысоева в девятом классе с „Травиаты“ сбежала, так он ей никогда не простил. Сказал: „Если человек предпочитает вместо прямого и честного объяснения своей позиции — сделать что-то тайком и втихомолку, мне такой человек сомнителен“. Люська просто не выдержала. Если бы она тогда стала ему свои позиции объяснять, он бы ее живую заел, эти объяснения до сих пор бы не кончились. Раз он что-нибудь не понимает, он же никогда не поймет, поймите. Вернее — раз уж не принимает, то никогда не примет. Он забывать не умеет, вот, по-моему, главное. Может — так и надо, не знаю, но мы тогда уже не выдерживали, рвались, как с цепи.