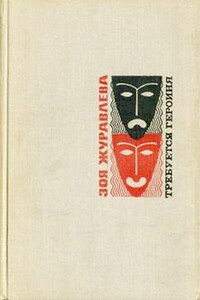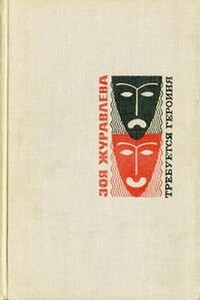Роман с героем конгруэнтно роман с собой | страница 28
Тут бы мне лучше помолчать, ибо сама, как в официальных бумагах пишут, разведена. Но я же не о себе, я — о капитане. А в его домовито-сиротской каюте, узкой, не шагнуть шагу, висят как праздник выходные штаны — нефлотские просто брюки, и всегдашняя его забота — чтобы брюки эти не смялись. Это, как я ощутила, вроде бы символ будущей встречи и неразрывной связи с семейным берегом, куда нужно прибыть наглаженным и красивым в любой непредсказуемо внезапный момент. Когда я думаю о капитане, я так себе это и представляю. Его жена Людмила, белотелая и спокойнолицая, «аналитический ум», стоит на высокой сопке в городе Холмске, должны же там быть сопки, придерживает на груди полушалок величавой своей рукой, словечко-то какое явилось — «полушалок», в нем для меня — значит — есть трепетание сердца, и трпетность ожидания как извечного женского начала, и трепет ветрового порыва, который полушалок немножко треплет.
Жена Людмила стоит там вечно. И смотрит в море пристальными серыми глазами. А сейнер «Старательный» уже приник старательным своим бортом к родному порту, а мой капитан уже шагнул на родной причал, и он уже поднимается все выше в сопку, навстречу своей Людмиле, такой прекрасный и в немятых брюках, хоть я эти священные штаны раз восемь смахнула случайно на пол, но мы их дружно потом трясли, и оглаживали от пыли ладошкой, и водружали на почетное место, чтоб головой невозможно было не задеть. И вот наконец Людмила видит своего-моего капитана, и тут ей отказывает аналитический ум, а мне — перо и воображение.
А пока мы еще идем с капитаном по гулким деревянным тротуарам Мало-Курильска, минуем единственную тут монументальную скульптуру, исполненную в гипсе, этот монументальный мужик, очень толстый, лихо крутит свой гипсовый штурвал, между нами, скульптура, ваятель которой мне неизвестен, именуется в местном фольклоре «Половая зрелость», и мне не часто приходилось видеть, чтобы название так гармонировало с произведением, минуем Дом культуры «Океан», где окна, к сожалению — не все, имитируют иллюминаторы, чтобы — видимо — и во время киносеанса ощутимо было присутствие моря, и приближаемся к рыбзаводу, крышу его ковром обсели чайки, и плотной крышей завис над ними чаячий крик. Там мы с капитаном должны расстаться навеки, хотя я не понимаю — почему. Я так привыкла к нему, мне с ним надежно, уютно и уже свойски, а за круглыми сопками, возле мыса «Край света» (заманчивые там будут щиты вдоль тропки: «До Края света — один километр», «До Края света — пятьсот метров», двести, сто, «Край света», сердце ухнет, но ведь щиты обманут, никакого-такого края там нет, есть скала, взрослые кайры сталкивают оттуда своих детей в море, чтобы птенцы на лету мужали, вереща от страха, и окунались в пенящуюся гущу жизни, худенький сын маячника собирает в расщелинах чаячьи яйца, корзина у него сбоку — как для грибов, а маячник — бывает — бьет под скалой молодых бакланов; заглянув за «Край света», убедишься только, что Свет — бесконечен, и увидишь опять лишь море, самовлюбленно перекатывающее себя самого в собственных волнах) меня поджидает всего-навсего еще один маяк и неведомые мне люди, которые вовсе меня не ждут и, может, мне тоже неинтересны. Почему же я должна нестись туда сейчас, сломя голову и бросив своего капитана? Никогда и никому не могла я внятно ответить на этот вопрос — зачем всю сознательную свою жизнь я меняю людей, профессии и места обитания. Чувствую: пора, иначе умру. И меняю. Эйнштейн, правда, на этот вопрос давно за меня ответил, но не будешь же всех подряд отсылать к Эйнштейну.