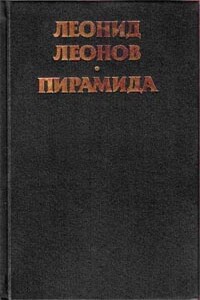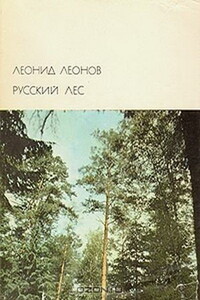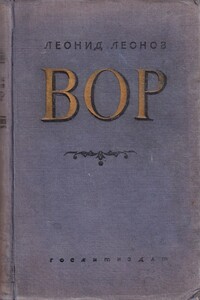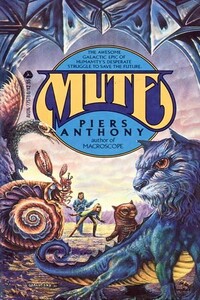Дорога на океан | страница 62
В ту пору было что красть, начинались первые базары нэпа, еще робкие, еще с оглядкой на устаревший декрет. Магически преображалось бытие. Из ям, подвалов, железных сундуков вылезали сидельцы со своими товарами. У них была внешность того, чем они торговали; молодцы с осетровыми и севрюжьими лицами постукивали плавниками по прилавку. Низвергнутый вчерашний день дразнил и виденьями обволакивал сумрачных, состарившихся, насквозь простреленных войною людей. По желтым с красноватым жирным отстоем рекам топленого молока, среди берегов дымящейся снеди, плыли ослепительные караваи ноздреватого, из домашней печи, хлеба. Это походило на пышные проводы сахарина, ржавой воблы и картофельных очисток. Люди жрали всюду, молча и украдкой от родных, точно творили преступление. Появлялись товары, способ употребления которых следовало искать в словарях: принимают это вовнутрь или только нюхают в вареном виде. Какие-то профессора кулинарии с ненавистью в потухших глазах готовили эти разухабистые яды. Можно было неделями колесить по стране и, не выходя из вагона, наблюдать тысячекилометровые натюрморты пылающих яств. Это фламандское неистовство, парад и разгул послевоенной нищеты, соблазны, сделанные из всех съедобных животных, обитающих в воздухе, в воде и на земле, завершались пирожными, райскими цветами из масла, сахара и миндаля, — низменные тезисы старого мира, высказанные на лаконическом кондитерском языке. И было жутко, жарко и смертно любопытно глядеть в прищуренные, беспощадные глаза врага, приблизившегося на штыковую схватку.
Эти люди с Басурманки скоро признали маленькую воровку. Они усмешливо, вполглаза, следили за ее неумелой хитростью и, хотя знали, что дело добром не кончится, не хватали до поры, даже помогали своим притворным равнодушием, давая время созреть событию. Так копят скряги, ежедневно жертвуя сытостью, и ребятишки сбирают землянику по закустьям, чтобы потом захлебнуться ею в припадке блаженного и жестокого расточительства. Весь базар принимал участие в игре с десятилетней замарашкой, и то, что умещалось в детском кулачке, служило ей нищенской платой вперед за приближающуюся развязку.
Всю игру спутал приезжий огородник из Устерьмы. Там народ живет ладный, бабы ходят подобно башням под самые облака, а этот и вовсе был как рыжебородая сосна, в горелого цвета армяке; он все щурился по сторонам, не нападут ли, не отнимут ли его богатств. Впервые после долгого перерыва он вывозил на продажу дары устеремских песков, вспоенных его потом. Дивные с розовыми бочками репы обнимались с морковью, длинноликою и той смешной расцветки, что бывает у дьячков в предбаннике. Скуластая, лиловая на ссадинах свекловуха нежилась бок о бок с перезрелыми огурцами, похожими на деревенских, с белыми лысинками, старичков,- их уже впрожелть ударило ранним заморозком. И все это до одури, до сладкого головокружения припахивало укропцем, запахом деловитой сытости, прочного зажитка и уютного чужого жилья. Лизе до слез захотелось репки, и, добыв ее, она успела выскочить из тесного круга телег; но чернички, пришедшие побираться и целиком зависевшие от базарных благодетелей, задержали ее в узком проулке, куда она метнулась. Ее схватили и, дурно ощупывая, как добычу, привели назад. Базар сдвинулся, привстал на свои лари и кади и, уставясь на зрелище, замолк.