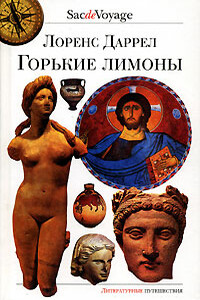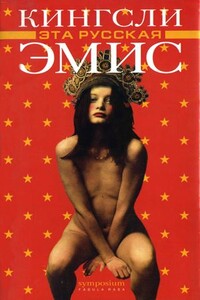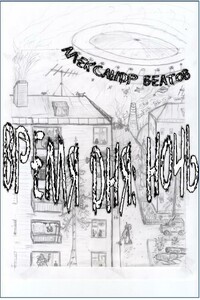Ливия, или Погребенная заживо | страница 25
Ливия сказала мне, что как-то вечером она со своим любовником отправилась в Ла-Вилле,[54] и там старый мясник — копия ее папеньки, по их просьбе, стреножил корову, которую должны были забить, и быстрым движением перерезал ей горло, примерно так вскрывают конверт. Он держал корову за рога, хотя жертва даже не успела ничего почувствовать. Струя крови хлынула в заранее приготовленные высокие стаканы для вина. И они пили ее под добродушным взглядом старика. Правда, потом им пришлось объясняться с полицейским, ибо они забрызгались кровью; было очень непросто убедить его в том, что пятна — не человечья кровь. Ну вам-то, Робин, теперь гораздо проще разобраться в отклонениях Ливии — вы же теперь доктор философии и психологии.
Мне всегда не давало покоя понятие так называемого «стабильного эго» — неужто такое существует? Старое определение этого зверя довольно примитивно, особенно для писателей, которые всегда норовят докопаться до причин тех или иных поступков. Вот и я, только напишу имя персонажа, и на меня сразу накатывает целый океан его возможных свойств, одно другого важнее и достовернее. Человеческая душа не имеет предела в разнообразии — у нее столько граней, что она может противоречить сама себе. До чего же бедна и жалка типология современной психологии. А ведь даже астрология, хотя ее мало кто признает наукой, старается охватить как можно больше человеческих свойств. Вот почему, Робин, наши с вами романы тоже так бедны. Было много Ливии, и некоторых я любил и буду любить до смертного часа; другие же отвалились от меня и высохли, словно мертвые пиявки. Были и личиночные формы в трактовке Парацельса, тени, духи, вампиры, призраки. Когда она окончательно ушла от меня, то прислала издевательскую телеграмму, которая, возможно, вас позабавит.
Даже Фрейдов вонючий компот
Тебе облегченья не принесет.
— Однако письмо, — продолжал Блэнфорд, — в котором была высказана мысль о моей неистребимой избыточности, пришло из Гантока, и она озаглавила его «На пути в Тибет». Длинное, путаное и бессвязное, оно до того расстроило меня, что я разорвал его. Но кое-что мне запомнилось. Она писала: «Ты не можешь представить, что значит оказаться на земле, где прекрасная шестирукая Цунгторма поднимает вверх нежные, как лепестки лотоса, ладони». Эта фраза была камешком в мой огород, в буйный сад моего литературного стиля — почему не шестирукие души? Но возможно ли, подумал я тогда, честно показать множество свойств и при этом сохранить хотя бы относительную целостность персонажа? Да, я мечтал о книге, которая, будучи многоплановой, станет органически целостной. Части тела убитого Осириса, разбросанные по всему миру, в один прекрасный день непременно должны были соединиться. Из яйца грядущего вылупилась эта смуглая и серьезная девица, которая однажды с самоуверенным презрением непременно произнесет: «Любому ясно, которую из нас он любит». Подобное становится понятным лишь спустя многие годы, при других обстоятельствах и даже, может быть, в другой стране, когда лежишь на пляже прижимаясь щекой к теплой гальке. «Что ты сделала?» — спросил я у Констанс. И она ответила: «Я вдруг поняла, что должна бежать от нее, она всегда будет заслонять мне свет, мешать моему росту. Я крепко обняла ее, и ей стало нечем дышать».