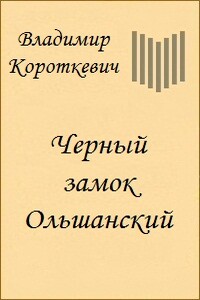Чозения | страница 49
Ему было очень горько чувствовать это.
Ночь. Милая музыка ночи. Сонно чмокает река. Подушка из водорослей у нее под щекой. Склонились и чутко слушают сны всего живого тонкие чозении. Тревожным сном спит где-то в дебрях женьшень. Далеко в земле спит Генусь. Спят мертвые в могилах, живые — в постелях и у костров. И все-все слушают песню ночи: одни с надеждой, другие с безнадежностью. Одни — смирившись, другие — готовые зубами драться за жизнь.
В дремоте, из-под полуопущенных век он вдруг увидел, как беззвучно сел и вытянулся Амур. Шерсть на загривке поднялась, как грива, напряглись мускулы, беззвучно оскалилась пасть. И этот беззвучный оскал был страшнее, чем рык и лай.
Северин сел.
Огонь догорал. И первое, что человек увидел в темноте, за границей красноватого пятна света, за этим угасающим во тьме оазисом, были два зеленых холодных огонька. Ледяные, застывшие, неподвижные, немигающие.
Человек и зверь смотрели друг другу в глаза. Потом человек встал. И сразу из темноты, оттуда, где светили два безжалостных, чудовищно гигантских светляка, долетел горловой, приглушенный кашель и хрип.
Что-то грозно ворочалось в самой, казалось, глотке мрака, что-то перекатывалось, как далекий гром, возносилось до высокого, предательски нежного, сладострастного мурлыкания и вдруг падало чуть не на две октавы, до глухого рева, до клекота. Словно рычала сама первозданная ночь. И не было на свете ничего более первобытного, более страшного, более всевластного.
Человек сделал шаг, и второй, и третий. Во тьму. С голыми руками. Приглушенный рев будто отскочил дальше во мрак. И еще на шаг отскочил. И еще.
— Ты, маньчжурская пантера, — сказал человек. — Ты, барс. Ты, леопард, и как там еще тебя зовут. Драная кошка, что ли? А ну давай сюда!
Звуки человеческого голоса, казалось, заставили леопарда отскочить еще. Рев сменился удушливым хрипом, будто в темноте кто-то умирал.
Северин сделал еще шаг. Он не помнил себя от злости. От злости на это чудовище, что охотится на собаку, а может, и на него, от злости на темноту, от злости на эту женщину, которая, пусть даже из соображении высшей правды, перечеркнула его жизнь.
Хрип теперь бродил вокруг костра. По невидимому кругу. Бродил и постепенно отдалялся. С очевидной неохотой, с чувством смертельно оскорбленной гордости.
И человек знал, что зверь никогда не простит ему поражения.
Он подбросил в огонь сушняка. Пламя взметнулось и запрыгало багрянцем по черным лапам кедров, по светлым крыльям гигантских орехов, по открытым дверям избушки, по лицу женщины, которая стояла в проеме этих дверей.