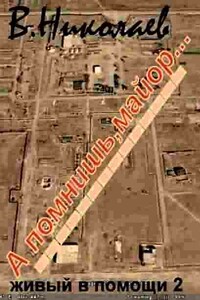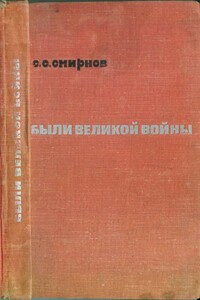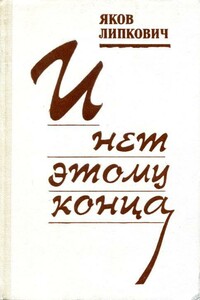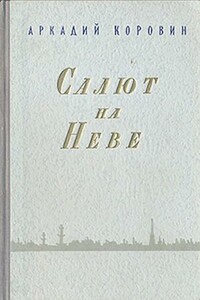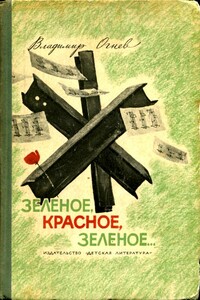Записки «афганца» | страница 45
Выполняя боевую задачу, любая группа была твердо уверена: живыми или мертвыми их вызволят из любой непредвиденной ситуации. Чего не скажешь о народной армии Афганистана, а тем более — о бандитах. У последних существовал вообще звериный порядок: если раненого не могли унести, его просто добивали.
Надежда на то, что потерявшиеся экипажи целы, еще оставалась. Так считали на «Скобе». Но Господь судил иначе.
Все стало ясно при входе в поисковое ущелье. Оно оказалось тупиковым и не имело сквозного прохода! Этого не могли знать погибшие летчики, как не знали за секунду до входа в ущелье и пилоты «Скобы», ибо на полетных картах эта особенность рельефа не была обозначена. Ребят-поисковиков, специально тренированных к нештатным ситуациям и налетавших не один час в труднейших условиях, крутанула тупая дрожь. Теперь им стала ясна картина случившегося вчерашним вечером.
Быстро наплывающая темнота заставила пилотов изменить намеченный маршрут полета, что и привело их к гибели. Кого в том винить, топографов? Стандартной полетной карте было более тридцати лет. В боевых условиях в этом районе ею никто не пользовался. А в Афганистане сотни ущелий, о рельефе которых не знают даже местные жители. Ибо племена, кочующие по стране, оседают в знакомых местах на срок в зависимости от времени года. И снимаются по-цыгански стремительно, без предупреждения. Каждое кочевье живет само по себе, по своему вековому укладу, подчиняясь своим законам. Во главе каждого рода — старейшины, решающие все вопросы от того, где ставить шакр и до судебного приговора.
В то время, когда в глухом ущелье разбились русские вертолетчики, по восточному афганскому календарю шел 1366-й год. Кочевники-афганцы, с которыми приходилось встречаться на разведвыходах, чаще и не знали, какая страна находится рядом и есть ли она вообще. Расстояние и направление до ближайшего кочевья, до стоянки чужого племени определялось перелетом стрелы правее-левее какой-нибудь снежной вершины и солнца. Где уж тут рассчитывать на подробную полетную карту, хотя от этого, конечно, нам не легче.
От многих встреч с афганцами, жившими порой ниже дна нищеты, оставалась тягость на душе. Предельно трудолюбивые, отзывчивые дехкане вызывали такую жалость в сердце, что летающие иногда по знакомым маршрутам экипажи и спецназ сбрасывали им оставшиеся поношенные, но крепкие вещи, а, по возможности, лекарства и продукты. Живущие недалеко от военных городков крестьяне бывало подводили к контрольно-пропускным пунктам своих детей (чаще девочек) и униженно молили взять их хотя бы на короткое время в рабство в обмен на продукты. Но к чести русского солдата, можно уверенно сказать, не известно ни одного случая, чтобы подобные предложения принимались.