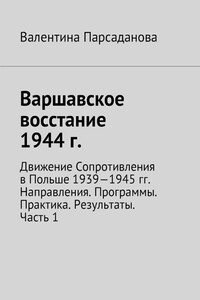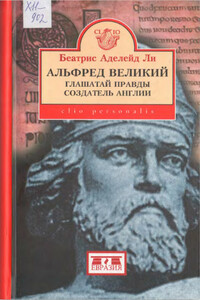Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима | страница 55
Подобные ужасные зрелища обставлялись пышно и театрализованно. Особенно любимы были собственно театральные, особенно пантомимические, представления с пытками и казнями на арене. Однако, вместо того чтобы пригласить артистов изображать муки и смерть, выводили преступников, предварительно заставив их выучить изображаемые сцены. И они подвергались настоящим страданиям. Один из них, вор, сожженный заживо, предстал на арене в одеянии Геркулеса. Еще у нескольких жертв в дорогих, шитых золотом туниках и пурпурных накидках, языки пламени вырывались прямо из-под великолепных и легковоспламеняющихся одежд, подобных смертоносным одеяниям волшебницы Медеи, а толпа на скамьях амфитеатра упивалась созерцанием того, как несчастные кричали и катались по песку арены, умирая в ужасных страданиях.
Не существовало такой пытки или казни, которую бы не инсценировали перед публикой. Каждый мог видеть, как мужчина в роли Аттиса лишался признаков своего пола или как некто, изображавший Муция Сцеволу,[55] держал руку над огнем до тех пор, пока она не сгорела. Этот случай Марциал описывает в следующей эпиграмме:
Еще один преступник был, подобно предводителю разбойников Лавреолу,[56] прибит на кресте и отдан на растерзание зверям. Марциал описывает, как его плоть и члены отваливались по кускам, пока тело не перестало быть телом. То ли в самооправдание, то ли для успокоения совести он добавляет, что замученный наверняка был отцеубийцей, храмовым вором или поджигателем-убийцей: